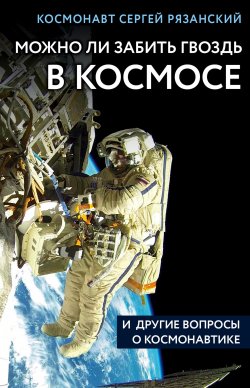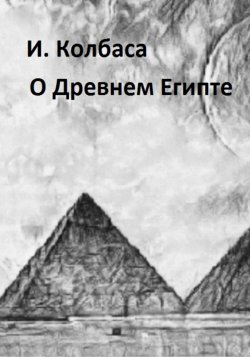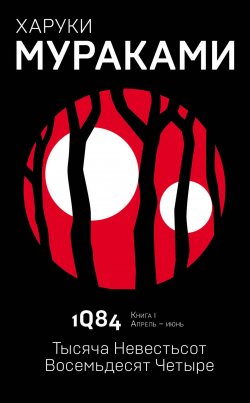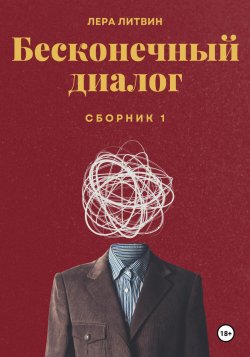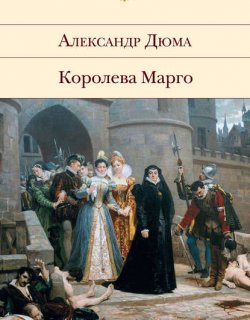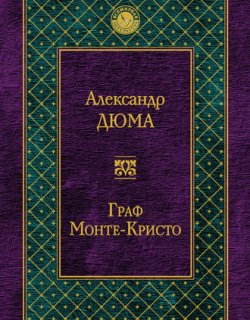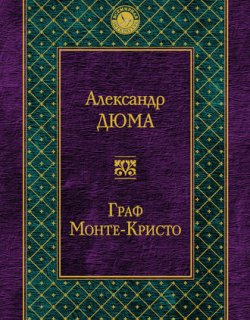Жми, тут можно >>> Аудиокниги слушать онлайнбесплатно
Граф Монте-Кристо - Александр Дюма

-
Тип:Электронные книги
- Жанр:Скачать книги / Читать книги онлайн / Детские книги / Зарубежные книги / Классика книги / Приключения книги / Рассказы книги / Романы книги
Скачать книгу Граф Монте-Кристо - Александр Дюма бесплатно
– Пожалейте меня, – воскликнул он, – помогите мне… Нет, моя дочь невиновна… Поставьте нас перед лицом суда, и я снова скажу: нет, моя дочь невиновна… В моем доме не было преступления… Я не хочу, вы слышите, чтобы в моем доме было преступление… Потому что если в чей-нибудь дом вошло преступление, то оно, как смерть, никогда не приходит одно. Послушайте, что вам до того, если я паду жертвой убийства?.. Разве вы мне друг? Разве вы человек? Разве у вас есть сердце?.. Нет, вы врач!.. И я вам говорю: нет, я не предам свою дочь в руки палача!.. Эта мысль гложет меня, я, как безумец, готов разрывать себе грудь ногтями!.. Что, если вы ошибаетесь, доктор? Если это кто-нибудь другой, а не моя дочь? Если в один прекрасный день, бледный, как призрак, я приду к вам и скажу: убийца, ты убил мою дочь!.. Если бы это случилось… я христианин, д’Авриньи, но я убил бы себя.
– Хорошо, – сказал доктор после краткого раздумья, – я подожду.
Вильфор недоверчиво посмотрел на него.
– Но только, – торжественно продолжал д’Авриньи, – если в вашем доме кто-нибудь заболеет, если вы сами почувствуете, что удар поразил вас, не посылайте за мной, я не приду. Я согласен делить с вами эту страшную тайну, но не желаю, чтобы стыд и раскаяние поселились в моей душе, вырастали и множились в ней так же, как злодейство и горе в вашем доме.
– Вы покидаете меня, доктор?
– Да, ибо нам дальше не по пути, я дошел с вами до подножия эшафота. Еще одно разоблачение – и этой ужасной трагедии настанет конец. Прощайте.
– Доктор, умоляю вас!
– Все, что я вижу здесь, оскверняет мой ум. Мне ненавистен ваш дом. Прощайте, сударь!
– Еще слово, одно только слово, доктор! Вы оставляете меня одного в этом ужасном положении, еще более ужасном от того, что вы мне сказали. Но что скажут о внезапной смерти несчастного Барруа?
– Вы правы, – сказал д’Авриньи, – проводите меня.
Доктор вышел первым, Вильфор шел следом за ним; встревоженные слуги толпились в коридоре и на лестнице, по которой должен был пройти доктор.
– Сударь, – громко сказал д’Авриньи Вильфору, так, чтобы все слышали, – бедняга Барруа в последние годы вел слишком сидячий образ жизни; он так привык разъезжать вместе со своим хозяином, то верхом, то в экипаже, по всей Европе, что уход за прикованным к креслу больным погубил его. Кровь застоялась, человек он был тучный, с короткой толстой шеей, его сразил апоплексический удар, а меня позвали слишком поздно. Кстати, – прибавил он шепотом, – не забудьте выплеснуть в печку фиалковый сироп.
И доктор, не протянув Вильфору руки, ни словом не возвращаясь к сказанному, вышел из дома, провожаемый слезами и причитаниями слуг.
В тот же вечер все слуги Вильфоров, собравшись на кухне и потолковав между собой, отправились к г-же де Вильфор с просьбой отпустить их. Ни уговоры, ни предложение увеличить жалованье не привели ни к чему; они твердили одно:
– Мы хотим уйти, потому что в этом доме смерть.
И они, невзирая на все просьбы, покинули дом, уверяя, что им очень жаль расставаться с такими добрыми хозяевами и особенно с мадемуазель Валентиной, такой доброй, такой отзывчивой и ласковой.
Вильфор при этих словах взглянул на Валентину.
Она плакала.
И странно: несмотря на волнение, охватившее его при виде этих слез, он взглянул также и на г-жу де Вильфор, и ему показалось, что на ее тонких губах мелькнула мимолетная мрачная усмешка, подобно зловещему метеору, пролетающему среди туч в глубине грозового неба.
IV. Жилище булочника на покое
Вечером того дня, когда граф де Морсер вышел от Данглара вне себя от стыда и бешенства, вполне объяснимых оказанным ему холодным приемом, Андреа Кавальканти, завитой и напомаженный, с закрученными усами, в туго натянутых белых перчатках, почти стоя в своем фаэтоне, подкатил к дому банкира на Шоссе-д’Антен.
Повертевшись немного в гостиной, он улучил удобную минуту, отвел Данглара к окну и там, после искусного вступления, завел речь о треволнениях, постигших его после отъезда его благородного отца. Со времени этого отъезда, говорил он, в семье банкира, где его приняли, как родного сына, он нашел все, что служит залогом счастья, которое всякий человек должен ставить выше, чем прихоти страсти, а что касается страсти, то на его долю выпало счастье обрести ее в чудных глазах мадемуазель Данглар.
Данглар слушал с глубочайшим вниманием; он уже несколько дней ждал этого объяснения, и когда оно наконец произошло, лицо его в той же мере просияло, в какой оно нахмурилось, когда он слушал Морсера.
Все же раньше, чем принять предложение молодого человека, он счел нужным высказать ему некоторые сомнения.
– Виконт, – сказал он, – не слишком ли вы молоды, чтобы помышлять о браке?
– Нисколько, сударь, – возразил Кавальканти. – В Италии в знатных семьях приняты ранние браки; это обычай разумный. Жизнь так изменчива, что надо ловить счастье, пока оно дается в руки.
– Допустим, – сказал Данглар, – что ваше предложение, которым я очень польщен, будет благосклонно принято моей женой и дочерью, – с кем мы будем обсуждать деловую сторону? По-моему, этот важный вопрос могут разрешить должным образом только отцы на благо своим детям.
– Мой отец человек мудрый и рассудительный; он предвидел, что я, быть может, захочу жениться во Франции; и поэтому, уезжая, он оставил мне вместе с документами, удостоверяющими мою личность, письмо, в котором он обязуется в случае, если он одобрит мой выбор, выдавать мне ежегодно сто пятьдесят тысяч ливров, считая со дня моей свадьбы. Это составляет, насколько я могу судить, четвертую часть доходов моего отца.
– А я, – сказал Данглар, – всегда намеревался дать в приданое моей дочери пятьсот тысяч франков; к тому же она моя единственная наследница.
– Вот видите, – сказал Андреа, – как все хорошо складывается, если предположить, что баронесса Данглар и мадемуазель Эжени не отвергнут моего предложения. В нашем распоряжении будет сто семьдесят пять тысяч годового дохода. Предположим еще, что мне удастся убедить маркиза, чтобы он не выплачивал мне ренту, а отдал в мое распоряжение самый капитал (это будет нелегко, я знаю, но, может быть, это и удастся); тогда вы пустите наши два-три миллиона в оборот, а такая сумма в опытных руках всегда принесет десять процентов.
– Я никогда не плачу больше четырех процентов, – сказал банкир, – или, вернее, трех с половиной. Но моему зятю я стал бы платить пять, а прибыль мы бы делили пополам.
– Ну и чудно, папаша, – развязно сказал Кавальканти. Врожденная вульгарность по временам, несмотря на все его старания, прорывалась сквозь тщательно наводимый аристократический лоск.
Но, тут же спохватившись, он добавил:
– Простите, барон, – вы видите, уже одна надежда почти лишает меня рассудка; что же, если она осуществится?
– Однако надо полагать, – сказал Данглар, не замечая, как быстро эта беседа, вначале бескорыстная, обратилась в деловой разговор, – существует и такая часть вашего имущества, в которой ваш отец не может вам отказать?
– Какая именно? – спросил Андреа.
– Та, что принадлежала вашей матери.
– Да, разумеется, та, что принадлежала моей матери, Оливе Корсинари.
– А как велика эта часть вашего имущества?
– Признаться, – сказал Андреа, – я никогда не задумывался над этим, но полагаю, что она составляет по меньшей мере миллиона два.
У Данглара от радости захватило дух. Он чувствовал себя, как скупец, отыскавший утерянное сокровище, или утопающий, который вдруг ощутил под ногами твердую почву.
– Итак, барон, – сказал Андреа, умильно и почтительно кланяясь банкиру, – смею ли я надеяться…
– Виконт, – отвечал Данглар, – вы можете надеяться; и поверьте, что если с вашей стороны не явится препятствий, то это вопрос решенный.
– О, как я счастлив, барон! – сказал Андреа.
– Но, – задумчиво продолжал Данглар, – почему же граф Монте-Кристо, ваш покровитель в парижском свете, не явился вместе с вами поддержать ваше предложение?
Андреа едва заметно покраснел.
– Я прямо от графа, – сказал он, – это, бесспорно, очаровательный человек, но большой оригинал. Он вполне одобряет мой выбор; он даже выразил уверенность, что мой отец согласится отдать мне самый капитал вместо доходов с него; он обещал употребить свое влияние, чтобы убедить его; но заявил мне, что он никогда не брал и никогда не возьмет на себя ответственности просить для кого-нибудь чьей-либо руки. Но я должен отдать ему справедливость, он сделал мне честь, добавив, что если он когда-либо сожалел о том, что взял себе это за правило, то именно в данном случае, ибо он уверен, что этот брак будет счастливым. Впрочем, если он официально и не принимает ни в чем участия, он оставляет за собой право высказать вам свое мнение, если вы пожелаете с ним переговорить.
– Прекрасно.
– А теперь, – сказал с очаровательнейшей улыбкой Андреа, – разговор с тестем окончен, и я обращаюсь к банкиру.
– Что же вам от него угодно? – сказал, засмеявшись, Данглар.
– Послезавтра мне следует получить у вас что-то около четырех тысяч франков; но граф понимает, что в этом месяце мне, вероятно, предстоят значительные траты и моих скромных холостяцких доходов может не хватить; поэтому он предложил мне чек на двадцать тысяч франков, – вот он. На нем, как видите, стоит подпись графа. Этого достаточно?
– Принесите мне таких на миллион, и я приму их, – сказал Данглар, пряча чек в карман. – Назначьте час, который вам завтра будет удобен, мой кассир зайдет к вам, и вы распишетесь в получении двадцати четырех тысяч франков.
– В десять часов утра, если это удобно; чем раньше, тем лучше; я хотел бы завтра уехать за город.
– Хорошо, в десять часов. В гостинице Принцев, как всегда?
– Да.
На следующий день, с пунктуальностью, делавшей честь банкиру, двадцать четыре тысячи франков были вручены Кавальканти, и он вышел из дому, оставив двести франков для Кадрусса.
Андреа уходил главным образом для того, чтобы избежать встречи со своим опасным другом; по той же причине он вернулся домой как можно позже. Но едва он вошел во двор, как перед ним очутился швейцар гостиницы, ожидавший его с фуражкой в руке.
– Сударь, – сказал он, – этот человек приходил.
– Какой человек? – небрежно спросил Андреа, делая вид, что совершенно забыл о том, о ком, напротив, прекрасно помнил.
– Тот, которому ваше сиятельство выдает маленькую пенсию.
– Ах да, – сказал Андреа, – старый слуга моего отца. Вы ему отдали двести франков, которые я для него оставил?
– Отдал, ваше сиятельство. – По желанию Андреа, слуги называли его «ваше сиятельство». – Но он их не взял, – продолжал швейцар.
Андреа побледнел; но так как было очень темно, никто этого не заметил.
– Как? Не взял? – сказал он дрогнувшим голосом.
– Нет; он хотел видеть ваше сиятельство. Я сказал ему, что вас нет дома; он настаивал. Наконец он мне поверил и оставил для вас письмо, которое принес с собой запечатанным.
– Дайте сюда, – сказал Андреа. И он прочел при свете фонаря фаэтона:
«Ты знаешь, где я живу, я жду тебя завтра в десять утра».
Андреа осмотрел печать, проверяя, не вскрывал ли кто-нибудь письмо и не познакомился ли чей-нибудь нескромный взор с его содержанием. Но оно было так хитроумно сложено, что, для того чтобы прочитать его, пришлось бы сорвать печать, а печать была в полной сохранности.
– Хорошо, – сказал Андреа. – Бедняга! Он очень славный малый.
Швейцар вполне удовлетворился этими словами и не знал, кем больше восхищаться, молодым господином или старым слугой.
– Поскорее распрягайте и поднимитесь ко мне, – сказал Андреа своему груму.
В два прыжка он очутился в своей комнате и сжег письмо Кадрусса, причем уничтожил даже самый пепел.
Не успел он это сделать, как вошел грум.
– Ты одного роста со мной, Пьер, – сказал ему Андреа.
– Имею эту честь, – отвечал грум.
– Тебе должны были вчера принести новую ливрею.
– Да, сударь.
– У меня интрижка с одной гризеткой, которой я не хочу открывать ни моего титула, ни положения. Одолжи мне ливрею и дай мне свои бумаги, чтобы я мог в случае надобности переночевать в трактире.
Пьер повиновался.
Пять минут спустя Андреа, совершенно неузнаваемый, вышел из гостиницы, нанял кабриолет и велел отвезти себя в трактир под вывеской «Красная лошадь», в Пикпюсе.
На следующий день он ушел из трактира, так же никем не замеченный, как и в гостинице Принцев, прошел предместье Сент-Антуан, бульваром дошел до улицы Менильмонтан и, остановившись у двери третьего дома по левой руке, стал искать, у кого бы ему, за отсутствием привратника, навести справки.
– Кого вы ищете, красавчик? – спросила торговка фруктами с порога своей лавки.
– Господина Пайтена, толстуха, – отвечал Андреа.
– Бывшего булочника? – спросила торговка.
– Его самого.
– В конце двора, налево, четвертый этаж.
Андреа пошел в указанном направлении, поднялся на четвертый этаж и сердито дернул заячью лапку на двери. Колокольчик отчаянно зазвонил.
Через секунду за решеткой, вделанной в дверь, появилось лицо Кадрусса.
– Ты точен! – сказал он.
И он отодвинул засовы.
– Еще бы! – сказал Андреа, входя.
И он так швырнул свою фуражку, что она, не попав на стул, упала на пол и покатилась по комнате.
– Ну, ну, малыш, не сердись! – сказал Кадрусс. – Видишь, как я о тебе забочусь, вон какой завтрак я тебе приготовил; все твои любимые кушанья, черт тебя возьми!
Андреа действительно почувствовал запах стряпни, грубые ароматы которой были не лишены прелести для голодного желудка; это была та смесь свежего жира и чесноку, которой отличается простая провансальская кухня; пахло и жареной рыбой, а надо всем стоял пряный дух мускатного ореха и гвоздики. Все это исходило из двух глубоких блюд, поставленных на конфорки и покрытых крышками, и из кастрюли, шипевшей в духовке чугунной печки.
Кроме того, в соседней комнате Андреа увидел опрятный стол, на котором красовались два прибора, две бутылки вина, запечатанные одна – зеленым, другая – желтым сургучом, графинчик водки и нарезанные фрукты, искусно разложенные поверх капустного листа на фаянсовой тарелке.
– Ну, что скажешь, малыш? – спросил Кадрусс. – Недурно пахнет? Ты же знаешь, я был хороший повар: помнишь, как вы все пальчики облизывали? И ты первый, ты больше всех полакомился моими соусами и, помнится, не брезговал ими.
И Кадрусс принялся чистить лук.
– Да ладно, ладно, – с досадой сказал Андреа, – если ты только ради завтрака побеспокоил меня, так пошел к черту!
– Сын мой, – наставительно сказал Кадрусс, – за едой люди беседуют; и потом, неблагодарная душа, разве ты не рад повидаться со старым другом? У меня так прямо слезы текут.
Кадрусс в самом деле плакал; трудно было только решить, что подействовало на слезную железу бывшего трактирщика, радость или лук.
– Молчал бы лучше, лицемер! – сказал Андреа. – Будто ты меня любишь?
– Да, представь, люблю, – сказал Кадрусс, – это моя слабость, но тут уж ничего не поделаешь.
– Что не мешает тебе вызвать меня, чтобы сообщить какую-нибудь гадость.
– Брось! – сказал Кадрусс, вытирая о передник свой большой кухонный нож. – Если бы я не любил тебя, разве я согласился бы вести ту несчастную жизнь, на которую ты меня обрек? Ты посмотри: на тебе ливрея твоего слуги, стало быть, у тебя есть слуга; у меня нет слуг, и я принужден собственноручно чистить овощи; ты брезгаешь моей стряпней, потому что обедаешь за табльдотом в гостинице Принцев или в Кафе-де-Пари. А ведь я тоже мог бы иметь слугу и коляску, я тоже мог бы обедать, где вздумается; а почему я лишаю себя всего этого? Чтобы не огорчать моего маленького Бенедетто. Признай по крайней мере, что я прав.
И недвусмысленный взгляд Кадрусса подкрепил эти слова.
– Ладно, – сказал Андреа, – допустим, что ты меня любишь. Но зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел завтракать?
– Да чтобы видеть тебя, малыш.
– Чтобы видеть меня, а зачем? Ведь мы с тобой обо всем уже условились.
– Эй, милый друг, – сказал Кадрусс, – разве бывают завещания без приписок? Но прежде всего давай позавтракаем. Садись, и начнем с сардинок и свежего масла, которое я в твою честь положил на виноградные листья, злючка ты этакий. Но я вижу, ты рассматриваешь мою комнату, мои соломенные стулья, грошовые картинки на стенах. Что прикажешь, здесь не гостиница Принцев!
– Вот ты уже жалуешься, ты недоволен, а сам ведь мечтал о том, чтобы жить, как булочник на покое.
Кадрусс вздохнул.
– Ну, что скажешь? Ведь твоя мечта сбылась.
– Скажу, что это только мечта; булочник на покое, милый Бенедетто, человек богатый, имеет доходы.
– И у тебя есть доходы.
– У меня?
– Да, у тебя, ведь я же принес тебе твои двести франков.
Кадрусс пожал плечами.
– Это унизительно, – сказал он, – получать деньги, которые даются так нехотя, неверные деньги, которых я в любую минуту могу лишиться. Ты сам понимаешь, что мне приходится откладывать на случай, если твоему благополучию придет конец. Эх, друг мой! Счастье непостоянно, как говорил священник у нас… в полку. Впрочем, я знаю, что твое благополучие не имеет границ, негодяй: ты женишься на дочери Данглара.
– Что? Данглара?
– Разумеется, Данглара! Или нужно сказать: барона Данглара? Это все равно, как если бы я сказал: графа Бенедетто! Ведь мы с Дангларом приятели, и не будь у него такая плохая память, ему следовало бы пригласить меня на твою свадьбу… ведь был же он на моей… да, да, да, на моей! Да-с, в те времена он не был таким гордецом; это был маленький служащий у господина Морреля. Не один раз обедал я вместе с ним и с графом де Морсером… Видишь, какие у меня знатные знакомства, и если бы я пожелал их поддерживать, мы с тобой встречались бы в одних и тех же гостиных.
– Ты от зависти совсем заврался, Кадрусс.
– Ладно, Benedetto mio. Я знаю, что говорю. Быть может, в один прекрасный день мы тоже напялим на себя праздничный наряд и скажем у какого-нибудь богатого подъезда: «Откройте, пожалуйста!» А пока садись и давай завтракать.
Кадрусс показал пример и с аппетитом принялся за еду, расхваливая все блюда, которыми он угощал своего гостя. Тот, по-видимому, покорился необходимости, бодро раскупорил бутылки и принялся за буайбес и треску, жаренную в прованском масле с чесноком.
– А, приятель, – сказал Кадрусс, – ты как будто идешь на мировую со своим старым поваром?
– Каюсь, – ответил Андреа, молодой, здоровый аппетит которого на время одержал верх над всеми другими соображениями.
– И что же, вкусно, мошенник?
– Очень вкусно! Не понимаю, как человек, который стряпает и ест такие лакомые блюда, может быть недоволен своей жизнью.
– Видишь ли, – сказал Кадрусс, – все мое счастье отравлено одной мыслью.
– Какой?
– А той, что я живу за счет друга, – я, который всегда честно зарабатывал себе на пропитание.
– Нашел о чем беспокоиться, – сказал Андреа, – у меня хватит на двоих, не стесняйся.
– Нет, право, верь не верь, но к концу каждого месяца меня мучает совесть.
– Полно, Кадрусс!
– Так мучает, что вчера я даже не взял этих двухсот франков.
– Да, ты хотел меня видеть; но разве из-за угрызений совести?
– Именно поэтому. Кроме того, мне пришла мысль.
Андреа вздрогнул; его всегда бросало в дрожь от мыслей Кадрусса.
– Видишь ли, – продолжал тот, – это отвратительно – постоянно жить в ожидании первого числа.
– Эх, – философски заметил Андреа, решив доискаться, куда клонит его собеседник, – разве вся жизнь не проходит в ожидании? А я как живу? Я просто терпеливо жду.
– Да, потому что, вместо того чтобы ждать какие-то несчастные двести франков, ты ждешь пять или шесть тысяч, а то и десять, а то и двенадцать. Ведь ты у нас хитрец. У тебя всегда водились какие-то кошельки, копилки, которые ты прятал от бедного Кадрусса. К счастью, у этого самого Кадрусса был хороший нюх.
– Опять ты чепуху мелешь, – сказал Андреа, – все о прошлом да о прошлом – к чему это, скажи на милость?
– Тебе только двадцать один год, тебе нетрудно забыть прошлое; а мне пятьдесят, и я волей-неволей возвращаюсь к нему. Но поговорим о делах.
– Наконец-то.
– Будь я на твоем месте…
– Ну?
– Я реализовал бы свой капитал.
– Реализовал?
– Да, я попросил бы деньги за полгода вперед, под тем предлогом, что хочу купить недвижимость и приобрести избирательные права. А получив деньги, я удрал бы.
– Так, так, так, – сказал Андреа, – это, пожалуй, неплохая мысль!
– Милый друг, – сказал Кадрусс, – ешь мою стряпню и следуй моим советам: от этого ты только выиграешь душой и телом.
– А почему ты сам не воспользуешься своим советом? – сказал Андреа. – Почему ты не реализуешь деньги за полгода, даже за год, и не уедешь в Брюссель? Вместо того чтобы изображать бывшего булочника, ты имел бы вид настоящего банкрота. Это теперь модно.
– Но что же я сделаю, имея в кармане тысячу двести франков?
– Какой ты стал требовательный, Кадрусс! – сказал Андреа. – Два месяца назад ты помирал с голоду.
– Аппетит приходит во время еды, – сказал Кадрусс, скаля зубы, как смеющаяся обезьяна или как рычащий тигр. – Поэтому я и наметил себе план, – прибавил он, впиваясь своими белыми и острыми, невзирая на возраст, зубами в огромный ломоть хлеба.
Планы Кадрусса приводили Андреа в еще больший ужас, чем его мысли: мысли были только зародышами, а план уже грозил осуществлением.
– Что же это за план? – сказал он. – Могу себе представить!
– А что? Кто придумал план, благодаря которому мы покинули некое заведение? Как будто я. От этого он не стал хуже, мне кажется, иначе мы с тобой не сидели бы здесь!
– Да я не спорю, – сказал Андреа, – ты иной раз говоришь дело. Но какой же у тебя план?
– Послушай, – продолжал Кадрусс, – можешь ли ты, не выложив ни одного су, добыть мне тысяч пятнадцать франков… нет, пятнадцати тысяч мало, я не согласен сделаться порядочным человеком меньше чем за тридцать тысяч франков.
– Нет, – сухо ответил Андреа, – этого я не могу.
– Ты, я вижу, меня не понял, – холодно и невозмутимо продолжал Кадрусс, – я сказал: не выложив ни одного су.
– Что же ты хочешь? Чтобы я украл и испортил все дело, и твое и мое, и чтобы нас опять отправили кое-куда?
– Что до меня, – сказал Кадрусс, – мне все равно, пусть забирают. Я, знаешь ли, со странностями: я иногда скучаю по товарищам, не то, что ты, сухарь! Ты рад бы никогда с ними больше не встретиться!
Андреа на этот раз не только вздрогнул; он побледнел.
– Брось дурить, Кадрусс, – сказал он.
– Да ты не бойся, Бенедетто, ты мне только укажи способ добыть без всякого твоего участия эти тридцать тысяч франков и предоставь все мне.
– Ладно, я подумаю, – сказал Андреа.
– А пока ты увеличишь мою пенсию до пятисот франков, хорошо? Я, видишь ли, решил нанять служанку.
– Ладно, ты получишь пятьсот франков, – сказал Андреа, – но мне это нелегко, Кадрусс… ты злоупотребляешь…
– Да что там! – сказал Кадрусс. – Ведь ты черпаешь из бездонных сундуков!
По-видимому, Андреа только и ждал этих слов; его глаза блеснули, но тотчас же померкли.
– Это верно, – ответил Андреа, – мой покровитель очень добр ко мне.
– Какой милый покровитель! – сказал Кадрусс. – И он выдает тебе ежемесячно?..
– Пять тысяч франков, – сказал Андреа.
– Столько же тысяч, сколько ты мне обещал сотен, – заметил Кадрусс, – верно говорят, что незаконнорожденным везет. Пять тысяч франков в месяц… Куда же, черт возьми, можно девать столько денег?
– Бог мой! Истратить их недолго, и я, как ты, мечтаю иметь капитал.
– Капитал… понятно… всякий хотел бы иметь капитал.
– А у меня он будет.
– Кто же тебе его даст? Твой князь?
– Да, мой князь; к сожалению, я должен еще подождать.
– Подождать чего? – сказал Кадрусс.
– Его смерти.
– Смерти твоего князя?
– Да.
– Почему это?
– Потому что он упоминает меня в своем завещании.
– Правда?
– Честное слово!
– А сколько?
– Пятьсот тысяч!
– Вон куда хватил!
– Я тебе говорю.
– Быть не может!
– Кадрусс, ты мне друг?
– На жизнь и на смерть.
– Я открою тебе тайну.
– Говори.
– Но только помни…
– Буду нем, как рыба.
– Так вот, мне кажется…
Андреа замолчал и оглянулся.
– Тебе кажется… Да ты не бойся! Мы совсем одни.
– Мне кажется, что я нашел своего отца.
– Настоящего отца?
– Да.
– Не папашу Кавальканти?
– Нет, тот уехал; настоящего, как ты говоришь.
– И этот отец…
– Кадрусс, это граф Монте-Кристо.
– Да что ты!
– Да; тогда, видишь ли, все становится понятным. Он, видимо, не может открыто признать меня, но меня признает старик Кавальканти и получает за это пятьдесят тысяч франков.
– Пятьдесят тысяч франков за то, чтобы стать твоим отцом! Я бы согласился за полцены, за двадцать тысяч, за пятнадцать тысяч. Как же ты не подумал обо мне, неблагодарный?
– Да разве я знал об этом? Все это было устроено, когда мы еще были там.
– Да, верно. И ты говоришь, что в своем завещании…
– Он оставляет мне пятьсот тысяч франков.
– Ты уверен?
– Он сам мне показывал; но это еще не все.
– Существует приписка, как я говорил?
– Вероятно.
– И в этой приписке?
– Он признает меня своим сыном.
– Что за добрый отец, славный отец, достойнейший отец! – воскликнул Кадрусс, подкидывая в воздух тарелку и ловя ее обеими руками.
– Вот видишь! Скажи после этого, что у меня есть от тебя тайны!
– Ты прав; а твое доверие ко мне делает тебе честь. И что же, этот князь, твой отец – богатый человек, богатейший?
– Еще бы. Он сам не знает, сколько у него денег.
– Да не может быть!
– Кому же знать, как не мне; ведь я вхож к нему в любое время. На днях банковский служащий принес ему пятьдесят тысяч франков в бумажнике величиною с твою скатерть; а вчера сам банкир привез ему сто тысяч золотом.
Кадрусс был ошеломлен; в словах Андреа ему чудился звон металла, шум пересыпаемых червонцев.
– И ты вхож в этот дом? – наивно воскликнул он.
– Во всякое время.
Кадрусс помолчал; было ясно, что его занимает какая-то важная мысль.
Вдруг он воскликнул:
– Как бы мне хотелось видеть все это! Как все это должно быть прекрасно!
– Да, правда, – сказал Андреа, – он живет великолепно.
– Ведь он, кажется, живет на Елисейских полях?
– Номер тридцать.
– Номер тридцать? – повторил Кадрусс.
– Да, великолепный особняк, с двором и садом, ты должен знать!
– Очень возможно; но меня интересует не внешний вид, а внутренний; какая, должно быть, там прекрасная обстановка!
– Ты когда-нибудь бывал в Тюильри?
– Нет.
– У него гораздо лучше.
– Скажи, Андреа, должно быть, приятно бывает нагнуться, когда этот добрый Монте-Кристо уронит кошелек?
– Незачем ждать этого, – сказал Андреа, – деньги в этом доме и так валяются, как яблоки в саду.
– Ты бы когда-нибудь взял меня с собой.
– Как же это можно? В качестве кого?
– Ты прав; но у меня от твоих слов слюнки потекли. Я непременно должен это видеть собственными глазами, я уж найду способ.
– Не дури, Кадрусс!
– Я скажу, что я полотер.
– Там всюду ковры.
– Ах, черт! Значит, мне придется только воображать себе все это.
– Поверь, это будет лучше всего.
– Ну, хоть расскажи мне, что там есть?
– Как же я тебе расскажу?
– Ничего нет легче. Дом большой?
– Не большой и не маленький.
– А как расположены комнаты?
– Ну, знаешь, если тебе нужен план, давай бумагу и чернила.
– Сейчас дам! – поспешно заявил Кадрусс.
И он взял со старенького письменного стола лист бумаги, чернила и перо.
– Вот! – сказал Кадрусс. – Изобрази-ка мне это на бумаге, сынок.
Андреа едва заметно улыбнулся, взял перо и приступил к делу.
– При доме, как я уже тебе говорил, есть двор и сад; вот посмотри.
И Андреа начертил сад, двор и дом.
– Ограда высокая?
– Нет, футов восемь или десять, не больше.
– Это большая неосторожность, – сказал Кадрусс.
– Во дворе кадки с померанцевыми деревьями, лужайки, цветники.
– А капканов нет?
– Нет.
– А где конюшни?
– По обе стороны ворот, вот здесь и здесь.
И Андреа продолжал чертить.
– Нарисуй мне нижний этаж, – сказал Кадрусс.
– В нижнем этаже – столовая, две гостиные, бильярдная, прихожая, парадная лестница и внутренняя лестница.
– Окна?
– Окна великолепные, большие, широкие; я думаю, в каждое мог бы пролезть человек твоего роста.
– И на кой черт устраивают лестницы, когда в доме имеются такие окна.
– Что поделаешь? Роскошь!
– А ставни есть?
– Ставни есть, но их никогда не закрывают. Большой оригинал этот граф Монте-Кристо, любит смотреть на небо даже по ночам.
– А где спят слуги?
– У них отдельный дом. Направо от входа есть сарай, где хранятся пожарные лестницы. А над этим сараем комнаты для слуг, у каждого своя, и туда из дома проведены звонки.
– Звонки, черт возьми!
– Ты что?..
– Нет, ничего. Я говорю, звонки штука дорогая; и на что они, скажи на милость?
– Прежде там была собака, которая всю ночь бродила по двору, но ее отвезли в Отейль – знаешь, в тот дом, куда ты приходил?
– Да.
– Я ему вчера еще говорил: «Это очень неосторожно с вашей стороны, граф; ведь когда вы уезжаете в Отейль и увозите с собой всех ваших слуг, в доме никого нет».
«Ну и что же?» – спросил он.
«А то, что вас в один прекрасный день обокрадут».
– И что он ответил?
– Что он ответил?
– Да.
– Он ответил: «Ну и пускай обокрадут».
– Андреа, там, наверное, есть какая-нибудь конторка с западней.
– С какой западней?
– А вот с такой: схватит вора за руку, и тут же музыка начинает играть. Я слышал, что такую показывали на последней выставке.
– Там есть только секретер красного дерева, и в нем всегда торчит ключ.
– И твоего графа не обкрадывают?
– Нет, все его слуги ему очень преданы.
– И какая должна быть прорва денег в этом секретере!
– Там, может быть… впрочем, кто его знает!
– А где он стоит?
– Во втором этаже.
– Нарисуй-ка мне, малыш, заодно примерный план второго этажа.
– Изволь.
И Андреа снова взялся за перо.
– Во втором, видишь ли, есть прихожая, гостиная; направо от гостиной – библиотека и кабинет, налево от гостиной – спальня и будуар. В будуаре и стоит этот самый секретер.
– А окно там есть?
– Два: тут и тут.
И Андреа нарисовал два окна в небольшой угловой комнате, которая примыкала к более просторной спальне графа.
Кадрусс задумался.
– И часто он уезжает в Отейль? – спросил он.
– Раза два-три в неделю, завтра, например, он собирается туда на весь день и будет там ночевать.
– Ты в этом уверен?
– Он пригласил меня туда обедать.
– Ну и жизнь! – сказал Кадрусс. – Дом в городе, дом за городом.
– На то он и богач.
– А ты поедешь к нему обедать?
– Наверное.
– Когда ты у него там обедаешь, ты и ночевать остаешься?
– Как вздумается. Я у графа, как у себя дома.
Кадрусс взглянул на молодого человека таким взглядом, словно хотел вырвать истину из глубины его сердца. Но Андреа вынул из кармана портсигар, выбрал себе «гавану», спокойно закурил ее и стал небрежно пускать кольца дыма.
– Когда тебе угодно получить свои пятьсот франков? – спросил он Кадрусса.
– Да хоть сейчас, если они с тобой.
Андреа достал из кармана двадцать пять луидоров.
– Канареечки, – сказал Кадрусс, – нет, покорно благодарю!
– Ты ими брезгаешь?
– Напротив, я их очень уважаю, но я их не хочу.
– Да ведь ты наживешь на размене, болван: за золотой дают на пять су больше.
– Знаю, а потом меняла велит выследить беднягу Кадрусса, а потом его зацапают, а потом ему придется разъяснять, какие такие арендаторы вносят ему платежи золотом. Не дури, малыш, – давай просто серебро, кругляшки с портретом какого-нибудь монарха. Монета в пять франков у всякого найдется.
– Да не могу же я носить с собой пятьсот франков серебром; мне пришлось бы взять носильщика.
– Ну так оставь их в гостинице, у швейцара, – он честный малый; я схожу за ними.
– Сегодня?
– Нет, завтра; сегодня я занят.
– Ладно; завтра, отправляясь в Отейль, я оставлю их у него.
– Я могу рассчитывать на это?
– Вполне.
– Дело в том, что я заранее хочу сговориться со служанкой.
– Сговаривайся. Но на этом и конец? Ты не будешь больше приставать ко мне?
– Никогда.
Кадрусс стал так мрачен, что Андреа боялся, не придется ли ему обратить внимание на эту перемену. Поэтому он постарался казаться еще веселее и беспечнее.
– С чего ты так развеселился, – сказал Кадрусс, – можно подумать, что ты уже получил наследство!
– Нет еще, к сожалению!.. Но в тот день, когда я получу его…
– Что тогда?
– Одно тебе скажу: тогда я не забуду своих друзей.
– Ну еще бы, с твоей-то памятью!
– Да, я думал, ты будешь с меня деньги тянуть.
– Это я-то! Скажешь тоже! Напротив, я дам тебе добрый совет.
– Какой?
– Оставь здесь это кольцо с бриллиантом. Ты что же хочешь, чтобы нас поймали? Хочешь погубить нас обоих?
– А что такое? – спросил Андреа.
– Да как же? Ты надеваешь ливрею, выдаешь себя за слугу, а оставляешь у себя на пальце бриллиант в пять тысяч франков.
– Чет побери! Ты угадал! Почему ты не поступишь в оценщики?
– Да, уж я знаю толк в бриллиантах; у меня у самого они бывали.
– Ты бы побольше этим хвастал! – сказал Андреа и, ничуть не сердясь, вопреки опасениям Кадрусса, на это новое вымогательство, благодушно отдал ему кольцо.
Кадрусс близко поднес его к глазам, и Андреа понял, что он рассматривает грани.
– Это фальшивый бриллиант, – сказал Кадрусс.
– Да ты шутишь, что ли? – сказал Андреа.
– Не сердись, сейчас проверим.
Кадрусс подошел к окну и провел камнем по стеклу: послышался скрип.
– Confiteor![62] – сказал Кадрусс, надевая кольцо на мизинец. – Я ошибся; но эти жулики ювелиры так ловко подделывают камни, что прямо страшно забираться в ювелирные лавки. Вот еще одно отмирающее ремесло!..
– Ну что, – сказал Андреа, – теперь конец? Что тебе еще угодно? Отдать тебе куртку, а может, заодно и фуражку? Не церемонься, пожалуйста.
– Нет, ты, в сущности, парень хороший. Я больше тебя не держу и постараюсь обуздать свое честолюбие.
– Но берегись, продавая бриллиант, не попади в такую передрягу, какой ты опасался с золотыми монетами.
– Не беспокойся, я не собираюсь его продавать.
«Во всяком случае, до послезавтра», – подумал Андреа.
– Счастливый ты, мошенник, – сказал Кадрусс. – Ты возвращаешься к своим лакеям, к своим лошадям, экипажу и невесте!
– Конечно, – сказал Андреа.
– Я надеюсь, ты мне сделаешь хороший свадебный подарок в тот день, когда женишься на дочери моего друга Данглара?
– Я уже говорил, что это просто твоя фантазия.
– Сколько за ней приданого?
– Да я же тебе говорю…
– Миллион?
Андреа пожал плечами.
– Будем считать, миллион, – сказал Кадрусс, – но сколько бы у тебя ни было, я желаю тебе еще больше.
– Спасибо, – сказал Андреа.
– Это от чистого сердца, – прибавил Кадрусс, расхохотавшись. – Погоди, я провожу тебя.
– Не стоит трудиться.
– Очень даже стоит.
– Почему?
– Потому что у меня замок с маленьким секретом; мне пришло в голову им обзавестись; замок системы Юре и Фише, просмотренный и исправленный Гаспаром Кадруссом. Я тебе сделаю такой же, когда ты будешь капиталистом.
– Благодарю, – сказал Андреа, – я предупрежу тебя за неделю.
Они расстались. Кадрусс остался стоять на площадке лестницы, пока не убедился собственными глазами, что Андреа не только спустился вниз, но и пересек двор. Тогда он поспешно вернулся к себе, тщательно запер дверь и, как опытный архитектор, принялся изучать план, оставленный ему Андреа.
– Мне кажется, – сказал он, – что этот милый Бенедетто не прочь получить наследство; и тот, кто приблизит день, когда ему достанутся в руки пятьсот тысяч франков, будет не худшим из его друзей.
V. Взлом
На следующий день после того, как происходил переданный нами разговор, граф Монте-Кристо уехал в Отейль вместе с Али, несколькими слугами и лошадьми, которых он хотел испытать.
Еще накануне он и не думал, что поедет, так же как и Андреа. Эта поездка была вызвана главным образом возвращением из Нормандии Бертуччо, который привез новости о доме и о корвете. Дом был вполне готов, а корвет уже неделю стоял на якоре в маленькой бухте со всем своим экипажем из шести человек, исполнил все нужные формальности и мог в любое время выйти в море. Монте-Кристо похвалил Бертуччо за расторопность и предложил ему быть готовым к скорому отъезду, так как намеревался покинуть Францию не позже чем через месяц.
– А пока, – сказал он ему, – возможно, что мне понадобится проехать в одну ночь из Парижа в Трепор; я хочу, чтобы мне были приготовлены на пути восемь подстав, так чтобы я мог сделать эти пятьдесят лье в десять часов.
– Ваше сиятельство уже высказывали это желание, – отвечал Бертуччо, – и лошади готовы. Я их купил и сам разместил в наиболее удобных пунктах, то есть в таких деревнях, где никто обычно не останавливается.
– Отлично, – сказал Монте-Кристо, – я останусь здесь день-два, сообразуйтесь с этим.
Как только Бертуччо вышел из комнаты, чтобы отдать нужные распоряжения, на пороге показался Батистен; он нес письмо на золоченом подносе.
– Вы зачем явились? – спросил граф, увидя, что он весь в пыли. – Я вас, кажется, не звал?
Батистен, не отвечая, подошел к графу и подал ему письмо.
– Очень важное и спешное, – сказал он.
Граф вскрыл письмо и прочел:
«Графа Монте-Кристо предупреждают, что сегодня ночью в его дом на Елисейских полях проникнет человек, чтобы выкрасть документы, которые он считает спрятанными в конторке, стоящей в будуаре; граф Монте-Кристо настолько отважный человек, что не станет вмешивать в это дело полицию, каковое вмешательство могло бы сильно повредить тому, кто сообщает эти сведения. Граф может сам разделаться со взломщиком или через отверстие в стене, отделяющей спальню от будуара, или спрятавшись в самом будуаре. Присутствие многих людей и принятие видимых мер предосторожности, несомненно, остановят злоумышленника, и граф Монте-Кристо упустит возможность узнать врага, случайно обнаруженного тем лицом, которое предупреждает об этом графа и которое, быть может, окажется уже не в состоянии сделать это вторично, если при неудаче этой попытки злоумышленник надумал бы совершить новую».
Первой мыслью, мелькнувшей у графа, было подозрение, что это воровская уловка, грубая западня, что его извещают о небольшой опасности, чтобы отвлечь его внимание от опасности более серьезной. Он уже собирался отослать письмо полицейскому комиссару, невзирая на предупреждение, а может быть, именно благодаря предупреждению своего анонимного доброжелателя, как вдруг у него мелькнула мысль: не встретится ли он действительно с каким-нибудь личным своим врагом, которого только он и может узнать и который в случае необходимости только ему одному и может на что-нибудь пригодиться, как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить.
Мы знаем графа; поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное с той энергией, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь, принятое и неуклонно выполняемое им решение ни перед чем не отступать научили графа черпать неизведанные наслаждения в его битвах против природы, которая есть бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом.
– Они вряд ли собираются красть у меня документы, – сказал Монте-Кристо, – они хотят убить меня; это не воры, это убийцы. Я вовсе не желаю, чтобы господин префект полиции вмешивался в мои личные дела. Я, право, достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры.
Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты.
– Немедленно возвращайтесь в Париж, – сказал он, – и привезите сюда всех оставшихся слуг. Они все понадобятся мне здесь.
– Так в доме никого не останется, господин граф? – спросил Батистен.
– Нет, останется привратник.
– Может быть, господин граф примет во внимание, что от привратницкой до дома довольно далеко.
– Ну и что же?
– Могут ведь обокрасть весь дом, и он ничего не услышит.
– Кто может обокрасть?
– Воры.
– Вы осел, сударь. Я предпочитаю, чтобы воры разграбили весь дом, чем терпеть недостаток в прислуге.
Батистен поклонился.
– Вы понимаете, – сказал граф, – привезите сюда всех, до единого, но чтобы в доме все осталось, как обычно, вы только закроете ставни нижнего этажа, вот и все.
– А во втором этаже?
– Вы же знаете, что их никогда не закрывают. Ступайте.
Граф велел сказать, что он пообедает один и что прислуживать ему будет Али.
Он пообедал с обычной умеренностью, а после обеда, приказав Али следовать за собой, вышел через калитку, дошел, как бы прогуливаясь, до Булонского леса, повернул, словно непредумышленно, в сторону Парижа и уже в сумерках очутился напротив своего дома на Елисейских полях.
В доме царила полная тьма; только слабый огонек светился в привратницкой, стоявшей, как и говорил Батистен, шагах в сорока от дома.
Монте-Кристо прислонился к дереву и своим зорким взглядом окинул двойную аллею, прохожих и соседние улицы, чтобы проверить, не подстерегает ли его кто-нибудь. Минут через десять он убедился, что никто за ним не следит.
Тогда он подбежал вместе с Али к калитке, быстро вошел и по черной лестнице, от которой у него был ключ, прошел в свою спальню, не коснувшись ни одной занавеси, так что даже привратник не подозревал, что в дом, который он считал пустым, вернулся его хозяин.
Войдя в спальню, граф дал Али знак остановиться; затем он прошел в будуар и осмотрел его; все было как всегда; секретер стоял на своем месте, ключ торчал в замке. Он дважды повернул ключ, вынул его, подошел к двери спальни, снял скобу задвижки и вышел из будуара.
Тем временем Али принес и положил на стол указанное графом оружие: короткий карабин и пару двуствольных пистолетов, допускающих такой же верный прицел, как пистолеты, из которых стреляют в тире. Вооруженный таким образом, граф держал в своих руках жизнь пяти человек.
Было около половины десятого; граф и Али наскоро закусили ломтем хлеба и стаканом испанского вина; затем граф нажал пружину одной из тех раздвижных филенок, благодаря которым он мог из одной комнаты видеть, что делается в другой. Рядом с ним лежали его пистолеты и карабин, и Али, стоя возле него, держал в руке один из тех арабских топориков, форма которых не изменилась со времен крестовых походов.
В одно из окон спальни, выходившее, как и окно будуара, на Елисейские поля, графу видна была улица.
Так прошло два часа; было совершенно темно, а между тем Али своим острым зрением дикаря и граф благодаря привычке к темноте различали малейшее колебание ветвей во дворе.
Огонек в привратницкой уже давно потух.
Можно было предположить, что нападающие, если действительно предстояло нападение, пройдут по лестнице из нижнего этажа, а не влезут в окно. Монте-Кристо думал, что злоумышленники хотят его убить, а не обокрасть. Следовательно, их целью является его спальня, и они доберутся до нее или по потайной лестнице, или через окно будуара.
Он поставил Али у двери на лестницу, а сам продолжал наблюдать за будуаром.
На часах Дома Инвалидов пробило без четверти двенадцать; сырой западный ветер донес до них три зловещих удара.
Не успел еще замереть последний стук, как граф уловил со стороны будуара легкий скрип; затем еще и еще; на четвертый раз граф перестал сомневаться. Опытная и твердая рука вырезала алмазом оконное стекло.
Сердце у графа забилось. Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением.
Монте-Кристо знаком предупредил Али; тот, поняв, что опасность надвигается со стороны будуара, подошел ближе к своему хозяину.
Монте-Кристо горел нетерпением узнать, кто его враги и сколько их.
Окно, которое скрипело под алмазом, приходилось как раз напротив отверстия, куда заглядывал граф. Его взгляд остановился на этом окне. Он увидел, что в ночном мраке вырисовывается какая-то еще более темная тень; вслед за тем одно из оконных стекол стало непроницаемым, как будто на него снаружи наклеили лист бумаги, потом стекло треснуло, но не упало. Через проделанное отверстие просунулась рука и стала искать задвижку; секунду спустя окно открылось, и появился человек. Он был один.
– Вот смелый мошенник! – прошептал граф.
В эту минуту Али тихонько тронул его за плечо, он обернулся; Али показывал ему на то окно в спальне, которое выходило на улицу.
Монте-Кристо сделал три шага по направлению к этому окну; он знал изумительную чуткость своего верного слуги. И действительно, он увидел, что от ворот напротив отделился человек и, взобравшись на тумбу, старается разглядеть, что происходит в доме.
– Так, – сказал он, – их двое; один действует, а другой сторожит.
Он дал знак Али не спускать глаз с человека на улице и вернулся к тому, который забрался в будуар.
Взломщик уже вошел в комнату и осторожно двигался, вытянув руки вперед.
Наконец он, по-видимому, освоился с обстановкой; в будуаре были две двери, и он обе запер на задвижки.
Когда он подходил к той, которая вела в спальню, Монте-Кристо подумал, что он собирается войти, и взялся за один из пистолетов; но он услышал лишь шорох задвижки, скользящей в медных петлях. Это была мера предосторожности, и только; ночной посетитель, не зная, что граф позаботился снять скобу, мог теперь чувствовать себя как дома и совершенно спокойно приниматься за работу.
Взломщик неторопливо вытащил из своего широкого кармана какой-то предмет, поставил его на столик, затем подошел к секретеру, нащупал замок и заметил, что вопреки его ожиданиям ключа нет.
Но взломщик был человек предусмотрительный и все предвидел. Граф услышал характерное звяканье: так звякает связка отмычек в руках слесаря, пришедшего отпереть испорченный замок. Воры прозвали их «соловьями», вероятно, потому, что им доставляет удовольствие слушать, как они поют по ночам, со скрипом поворачиваясь в замке.
– Да это просто вор, – разочарованно пробормотал Монте-Кристо.
Но в темноте человек не мог подобрать подходящего инструмента. Тогда он прибег к помощи того предмета, который он поставил на столик; он нажал пружину, и тотчас же луч света, правда слабый, но все же достаточный для того, чтобы видеть, осветил его руки и лицо.
– Вот оно что! – негромко воскликнул Монте-Кристо, изумленно отступая на шаг. – Да ведь это…
Али поднял топорик.
– Стой на месте, – шепотом сказал ему Монте-Кристо, – и положи топор; оружие нам больше не понадобится.
Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе античного точильщика.
Выслушав графа, Али на цыпочках отошел от него, подошел к стене алькова и снял с вешалки черное одеяние и треугольную шляпу. Тем временем Монте-Кристо быстро сбросил с себя сюртук, жилет и сорочку; при свете тонкого луча, пробивающегося через щель в филенке, можно было различить на груди у графа гибкую и тонкую кольчугу, какие во Франции, где больше не страшатся кинжалов, уже никто не носит после Людовика XVI, который боялся быть заколотым и которому вместо этого отрубили голову.
Эта кольчуга тотчас же скрылась под длинной сутаной, как волосы графа – под париком с тонзурой; надетая поверх парика треугольная шляпа окончательно превратила графа в аббата.
Между тем взломщик, не слыша больше ни звука, снова выпрямился и, пока Монте-Кристо совершал свое превращение, подошел к секретеру, замок которого начал уже потрескивать под его «соловьем».
– Ладно, ладно, несколько минут ты еще повозишься! – прошептал граф, по-видимому, полагаясь на какой-то секрет в замке, неизвестный взломщику, несмотря на всю его опытность.
И он подошел к окну.
Человек, который взобрался на тумбу, теперь слез с нее и шагал взад и вперед по улице; но странное дело: вместо того чтобы следить за прохожими, которые могли появиться либо со стороны Елисейских полей, либо со стороны предместья Сент-Оноре, он, по-видимому, интересовался лишь тем, что происходило в доме графа, и всячески старался увидеть, что творится в будуаре.
Монте-Кристо вдруг хлопнул себя по лбу, и на его губах появилась молчаливая улыбка.
Он подошел к Али.
– Стой здесь в темноте, – тихо сказал он ему, – и что бы ты ни услышал, что бы ни произошло, не выходи отсюда и не показывайся, пока я тебя не кликну по имени.
Али кивнул головой.
Тогда Монте-Кристо достал из шкафа зажженную свечу и, выбрав минуту, когда вор был всецело поглощен замком, тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы свет падал на его лицо.
Дверь открылась так тихо, что вор ничего не услышал. Но, к его великому изумлению, комната неожиданно осветилась.
Он обернулся.
– Добрый вечер, дорогой господин Кадрусс! – сказал Монте-Кристо. – Что это вы делаете здесь в такой поздний час?
– Аббат Бузони! – воскликнул Кадрусс.
И, не понимая, каким путем очутился здесь этот странный посетитель, раз он закрыл обе двери, он выронил связку отмычек и замер как в столбняке.
Граф стал между Кадруссом и окном, отрезая таким образом перепуганному вору единственный путь отступления.
– Аббат Бузони! – повторил Кадрусс, оторопело глядя на графа.
– Да, аббат Бузони! – сказал Монте-Кристо. – Он самый, и я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрусс; это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже лет десять.
Это спокойствие, эта ирония, этот властный тон внушили Кадруссу такой ужас, что у него закружилась голова.
– Аббат! – бормотал он, стискивая руки и стуча зубами.
– Итак, вы решили обокрасть графа Монте-Кристо? – продолжал мнимый аббат.
– Господин аббат, – прошептал Кадрусс, тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну, – господин аббат, я сам не знаю… поверьте… клянусь вам…
– Вырезанное стекло, – продолжал граф, – потайной фонарь, связка отмычек, наполовину взломанный секретер – все это говорит само за себя.
Кадрусс беспомощно озирался, ища угол, куда бы спрятаться, или щель, через которую можно было бы улизнуть.
– Я вижу, вы все тот же, господин убийца, – сказал граф.
– Господин аббат, раз вы все знаете, вы должны знать, что это не я, это Карконта; это и суд признал: ведь меня приговорили только к галерам.
– Разве вы уже отбыли свой срок, что опять стараетесь туда попасть?
– Нет, господин аббат, меня освободил один человек.
– Этот человек оказал обществу большую услугу.
– Но я обещал… – сказал Кадрусс.
– Итак, вы бежали с каторги? – прервал его Монте-Кристо.
– Увы, – ответил перепуганный Кадрусс.
– Рецидив при отягчающих обстоятельствах?.. За это, если не ошибаюсь, полагается гильотина. Тем хуже, диаволо, как говорят остряки у меня на родине.
– Господин аббат, я поддался искушению…
– Все преступники так говорят.
– Нужда…
– Бросьте, – презрительно сказал Бузони, – человек в нужде просит милостыню, крадет булку с прилавка, но не является в пустой дом взламывать секретер. А когда ювелир Жоаннес отсчитал вам сорок пять тысяч франков за тот алмаз, который вы от меня получили, и вы убили его, чтобы завладеть и алмазом, и деньгами, вы это тоже сделали из нужды?
– Простите меня, господин аббат, – сказал Кадрусс, – вы меня уже спасли однажды, спасите меня еще раз.
– Не имею особого желания повторять этот опыт.
– Вы здесь один, господин аббат? – спросил Кадрусс, умоляюще складывая руки. – Или у вас тут спрятаны жандармы, готовые схватить меня.
– Я совсем один, – сказал аббат, – и я готов сжалиться над вами, и, хотя мое мягкосердечие может привести к новым бедам, я вас отпущу, если вы мне во всем признаетесь.
– Господин аббат, – воскликнул Кадрусс, делая шаг к Монте-Кристо, – вот уж поистине вы мой спаситель.
– Вы говорите, что вам помогли бежать с каторги?
– Это правда, верьте моему слову, господин аббат!
– Кто?
– Один англичанин.
– Как его звали?
– Лорд Уилмор.
– Я с ним знаком; я проверю, не лжете ли вы.
– Господин аббат, я говорю чистую правду.
– Так этот англичанин вам покровительствовал?
– Не мне, а молодому корсиканцу, с которым мы были скованы одной цепью.
– Как звали этого молодого корсиканца?
– Бенедетто.
– Это только имя.
– У него не было фамилии, это найденыш.
– И этот молодой человек бежал вместе с вами?
– Да.
– Каким образом?
– Мы работали в Сен-Мандрие, около Тулона. Вы знаете Сен-Мандрие?
– Знаю.
– Ну так вот, пока все спали, от полудня до часу…
– Полуденный отдых у каторжников! Вот и жалей их после этого! – сказал аббат.
– А как же, – заметил Кадрусс. – Нельзя все время работать, мы не собаки.
– К счастью для собак, – сказал Монте-Кристо.
– Пока остальные отдыхали, мы немного отошли в сторону, перепилили наши кандалы напильником, который нам передал этот англичанин, и удрали вплавь.
– А что сталось с этим Бенедетто?
– Не знаю.
– Вы должны это знать.
– Нет, право, не знаю. Мы с ним расстались в Гиере.
И чтобы придать больше весу своим уверениям, Кадрусс приблизился еще на шаг к аббату, который продолжал стоять на месте с тем же спокойным и вопрошающим видом.
– Вы лжете, – властно сказал аббат Бузони.
– Господин аббат!..
– Вы лжете! Этот человек по-прежнему ваш приятель, а может быть, и сообщник.
– Господин аббат!
– На какие средства вы жили с тех пор, как бежали из Тулона? Отвечайте.
– Как придется.
– Вы лжете! – в третий раз возразил аббат еще более властным тоном.
Кадрусс с ужасом посмотрел на графа.
– Вы жили, – продолжал он, – на деньги, которые он вам давал.
– Да, правда, – сказал Кадрусс. – Бенедетто стал сыном знатного вельможи.
– Как же он может быть сыном вельможи?
– Побочным сыном.
– А как зовут этого вельможу?
– Граф Монте-Кристо, хозяин этого дома.
– Бенедетто – сын графа? – сказал Монте-Кристо, в свою очередь, изумленный.
– Да, по всему так выходит. Граф нашел ему подставного отца, граф дает ему четыре тысячи франков в месяц, граф оставил ему по завещанию пятьсот тысяч франков.
– Вот оно что! – сказал мнимый аббат, начиная догадываться в чем дело. – А какое имя носит пока этот молодой человек?
– Андреа Кавальканти.
– Так это тот самый молодой человек, которого принимает у себя мой друг граф Монте-Кристо и который собирается жениться на мадемуазель Данглар?
– Вот именно.
– И вы это терпите, несчастный! Зная его жизнь и лежащее на нем клеймо?
– А с какой стати я буду мешать товарищу? – спросил Кадрусс.
– Верно, это уж мое дело предупредить господина Данглара.
– Не делайте этого, господин аббат!
– Почему?
– Потому что вы этим лишили бы нас куска хлеба.
– И вы думаете, что для того, чтобы сохранить двум негодяям кусок хлеба, я стану участником их плутней, сообщником их преступлений?
– Господин аббат! – умолял Кадрусс, еще ближе подступая к нему.
– Я все скажу.
– Кому?
– Господину Данглару.
– Черта с два! – воскликнул Кадрусс, выхватывая нож и ударяя графа в грудь. – Ничего ты не скажешь, аббат!
К полному изумлению Кадрусса, лезвие не вонзилось в грудь, а отскочило.
В тот же миг граф схватил левой рукой кисть Кадрусса и сжал ее с такой силой, что нож выпал из его онемевших пальцев и злодей вскрикнул от боли.
Но граф, не обращая внимания на его крики, продолжал выворачивать ему кисть до тех пор, пока он не упал сначала на колени, а затем ничком на пол.
Граф поставил ногу ему на голову и сказал:
– Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй.
– Пощадите, пощадите! – кричал Кадрусс.
Граф снял ногу.
– Вставай! – сказал он.
Кадрусс встал на ноги.
– Ну и хватка у вас, господин аббат! – сказал он, потирая онемевшую руку. – Ну и силища!
– Молчи! Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты. Я действую во имя его, помни это, негодяй. И если я щажу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать промыслу божию.
– Уф! – пробормотал Кадрусс, с трудом приходя в себя.
– Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую.
– Я не умею писать, господин аббат.
– Лжешь; бери и пиши.
Кадрусс покорно сел и написал:
«Милостивый государь, человек, которого вы принимаете у себя и за которого намереваетесь выдать вашу дочь, – беглый каторжник, бежавший вместе со мной с Тулонской каторги; он значился под № 59, а я под № 58.
Его звали Бенедетто; своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей».
– Подпишись! – продолжал граф.
– Вы хотите погубить меня?
– Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию; к тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться; подписывайся.
Кадрусс подписался.
– Пиши: Господину барону Данглару, банкиру, улица Шоссе-д’Антен.
Кадрусс надписал адрес.
Аббат взял записку в руки.
– Теперь уходи, – сказал он.
– Каким путем?
– Каким пришел.
– Вы хотите, чтобы я вылез в это окно?
– Ты же влез в него.
– Вы замышляете что-то против меня, господин аббат?
– Дурак, что же я могу замышлять?
– Почему вам не выпустить меня через ворота?
– Зачем будить привратника?
– Господин аббат, скажите мне, что вы не желаете моей смерти.
– Я хочу того, чего хочет господь.
– Но поклянитесь, что вы не убьете меня, пока я буду спускаться.
– Какой же ты трусливый дурак!
– Что вы со мной сделаете?
– Об этом тебя надо спросить. Я пытался сделать из тебя счастливого человека, а ты стал убийцей!
– Господин аббат, – сказал Кадрусс, – попытайтесь в последний раз.
– Хорошо, – сказал граф. – Ты знаешь, что я всегда держу свое слово?
– Да, – сказал Кадрусс.
– Если ты вернешься к себе домой цел и невредим…
– Кого же мне бояться, кроме вас?
– Если ты вернешься домой цел и невредим, покинь Париж, покинь Францию, и, где бы ты ни был, до тех пор пока ты будешь вести честную жизнь, ты будешь получать от меня небольшое содержание; ибо, если ты вернешься домой цел и невредим, то…
– То?.. – спросил дрожащий Кадрусс.
– То я буду считать, что господь простил тебя, и я тоже тебя прощу.
– Вы меня до смерти пугаете! – пробормотал, отступая, Кадрусс.
– Теперь уходи! – сказал граф, указывая Кадруссу на окно.
Кадрусс, еще не вполне успокоенный этим обещанием, вылез в окно и поставил ногу на приставную лестницу. Там он замер, весь дрожа.
– Теперь слезай, – сказал аббат, скрестив руки.
Кадрусс наконец уразумел, что с этой стороны ему ничто не грозит, и стал спускаться.
Тогда граф подошел к окну со свечой в руке, так что с улицы можно было видеть, как человек спускается из окна, а другой ему светит.
– Что вы делаете, господин аббат? – сказал Кадрусс. – А если патруль…
И он задул свечу.
Затем он продолжал спускаться; но совершенно успокоился лишь тогда, когда ступил на землю.
Монте-Кристо вернулся в свою спальню и, окинув быстрым взглядом сад и улицу, увидел сначала Кадрусса, который, спустившись в сад, обошел его и приставил лестницу в противоположном конце ограды, для того чтобы перелезть не там, где он влезал.
Потом, взглянув опять на улицу, он увидел, как поджидавший человек побежал по улице в ту же сторону, что и Кадрусс, и остановился как раз за тем углом, где тот собрался перелезать.
Кадрусс медленно поднялся по лестнице и, добравшись до последних перекладин, посмотрел через ограду, чтобы убедиться в том, что улица безлюдна.
Не было видно ни души, не слышно было ни малейшего шума.
Часы Дома Инвалидов пробили час.
Тогда Кадрусс уселся верхом на ограду и, подтянув к себе лестницу, перекинул ее через стену; затем принялся снова спускаться, или, вернее, стал съезжать по продольным брусьям с ловкостью, доказывающей, что это упражнение ему не внове.
Но, начав съезжать вниз, он не мог уже остановиться. Хоть он и увидел, уже на полпути, как из-за темного угла выскочил человек; хоть он и увидел, уже касаясь земли, как тот замахнулся на него рукой, но раньше, чем он успел принять оборонительное положение, эта рука с такой яростью ударила его в спину, что он выпустил лестницу с криком:
– Помогите!
Тут же он получил новый удар в бок и упал.
– Убивают! – закричал он.
Противник вцепился ему в волосы и нанес ему третий удар – в грудь.
На этот раз Кадрусс хотел снова крикнуть, но издал только стон, истекая кровью, тремя потоками струившейся из трех ран.
Убийца, увидев, что жертва больше не кричит, приподнял его голову за волосы; глаза Кадрусса были закрыты, рот перекошен. Убийца счел его мертвым, отпустил его голову и исчез.
Тогда Кадрусс, поняв, что он ушел, приподнялся на локте и из последних сил крикнул хриплым голосом:
– Убили! Я умираю! Помогите, господин аббат, помогите!
Этот жуткий крик прорезал ночную тьму. Открылась дверь потайной лестницы, затем калитка сада, и Али и его хозяин подбежали с фонарем.
VI. Десница господня
Кадрусс все еще звал жалобным голосом:
– Господин аббат, помогите! Помогите!
– Что случилось? – спросил Монте-Кристо.
– Помогите! – повторил Кадрусс. – Меня убили.
– Мы идем, потерпите.
– Все кончено! Поздно! Вы пришли смотреть, как я умираю. Какие удары! Сколько крови!
И он потерял сознание.
Али и его хозяин подняли раненого и перенесли его в дом. Там Монте-Кристо велел Али раздеть его и увидел три страшные раны.
– Боже, – сказал он, – иногда твое мщение медлит; но тогда оно еще более грозным нисходит с неба.
Али посмотрел на своего господина, как бы спрашивая, что делать дальше.
– Отправляйся в предместье Сент-Оноре к господину де Вильфору, королевскому прокурору, и привези его сюда. По дороге разбуди привратника и пошли его за доктором.
Али повиновался и оставил мнимого аббата наедине с Кадруссом, все еще лежавшим без сознания.
Когда несчастный снова открыл глаза, граф, сидя в нескольких шагах от него, смотрел на него с выражением угрюмого сострадания и, казалось, беззвучно шептал молитву.
– Доктора, доктора, – простонал Кадрусс.
– За ним уже послали, – ответил аббат.
– Я знаю, это бесполезно, меня не спасти, но, может быть, он подкрепит мои силы, и я успею сделать заявление.
– О чем?
– О моем убийце.
– Так вы его знаете?
– Еще бы не знать! Это Бенедетто.
– Тот самый молодой корсиканец?
– Он самый.
– Ваш товарищ?
– Да. Он дал мне план графского дома, надеясь, должно быть, что я убью графа и он получит наследство или что граф меня убьет и тогда он от меня избавится. А потом он подстерег меня на улице и убил.
– Я послал сразу и за доктором, и за королевским прокурором.
– Он опоздает, – сказал Кадрусс, – я чувствую, что вся кровь из меня уходит.
– Постойте, – сказал Монте-Кристо.
Он вышел из комнаты и вернулся с флаконом в руках.
Глаза умирающего, страшные в своей неподвижности, во время его отсутствия ни на секунду не отрывались от двери, через которую, он чувствовал, должна была явиться помощь.
– Скорее, господин аббат, скорее! – сказал он. – Я сейчас потеряю сознание.
Монте-Кристо подошел к раненому и влил в его синие губы три капли жидкости из флакона.
Кадрусс глубоко вздохнул.
– Еще… еще… – сказал он. – Вы возвращаете мне жизнь.
– Еще две капли, и вы умрете, – ответил аббат.
– Что же никто не идет? Я хочу назвать убийцу!
– Хотите, я напишу за вас заявление? Вы его подпишете?
– Да… да… – сказал Кадрусс, и глаза его заблестели при мысли об этом посмертном мщении.
Монте-Кристо написал:
«Я умираю от руки убийцы, корсиканца Бенедетто, моего товарища по каторге в Тулоне, значившегося под № 59».
– Скорее, скорее! – сказал Кадрусс. – А то я не успею подписать.
Монте-Кристо подал Кадруссу перо, и тот, собрав все свои силы, подписал заявление и откинулся назад.
– Остальное вы расскажете сами, господин аббат, – сказал он. – Вы скажете, что он называет себя Андреа Кавальканти, что он живет в гостинице Принцев, что… боже мой, я умираю!
И Кадрусс снова лишился чувств. Аббат поднес к его лицу флакон, и раненый снова открыл глаза.
Жажда мщения не оставляла его, пока он лежал в обмороке.
– Вы все расскажете, правда, господин аббат?
– Все это, конечно, и еще многое другое.
– А что еще?
– Я скажу, что он, вероятно, дал вам план этого дома в надежде, что граф убьет вас. Я скажу, что он предупредил графа письмом; я скажу, что, так как граф был в отлучке, это письмо получил я и что я ждал вас.
– И его казнят, правда? – сказал Кадрусс. – Его казнят, вы обещаете? Я умираю с этой надеждой, так мне легче умереть.
– Я скажу, – продолжал граф, – что он явился следом за вами, что он все время вас подстерегал; что, увидав, как вы вылезли из окна, он забежал за угол и там спрятался.
– Так вы все это видели?
– Вспомни мои слова: «Если ты вернешься домой цел и невредим, я буду считать, что господь простил тебя, и я тоже тебя прощу».
– И вы не предупредили меня? – воскликнул Кадрусс, пытаясь приподняться на локте. – Вы знали, что он меня убьет, как только я выйду отсюда, и вы меня не предупредили?
– Нет, потому что в руке Бенедетто я видел божье правосудие, и я считал кощунством противиться воле провидения.
– Божье правосудие! Не говорите мне о нем, господин аббат. Вы лучше всех знаете, что, если бы оно существовало, некоторые люди были бы наказаны.
– Терпение, – сказал аббат голосом, от которого умирающий затрепетал, – терпение!
Кадрусс, пораженный, взглянул на графа.
– К тому же, – сказал аббат, – господь милостив ко всем, он был милостив и к тебе. Он раньше всего отец, а затем уже судия.
– Так вы верите в бога? – сказал Кадрусс.
– Если бы я имел несчастье не верить в него до сих пор, – сказал Монте-Кристо, – то я поверил бы теперь, глядя на тебя.
Кадрусс поднял к небу сжатые кулаки.
– Слушай, – сказал аббат, простирая руку над раненым, словно повелевая ему верить, – вот что сделал для тебя бог, которого ты отвергаешь в твой смертный час: он дал тебе здоровье, силы, обеспеченный труд, даже друзей – словом, такую жизнь, которая удовлетворила бы всякого человека со спокойной совестью и естественными желаниями. Что сделал ты, вместо того чтобы воспользоваться этими дарами, которые бог столь редко посылает с такой щедростью? Ты погряз в лености и пьянстве и, пьяный, предал одного из своих лучших друзей.
– Помогите! – закричал Кадрусс. – Мне нужен не священник, а доктор; быть может, мои раны не смертельны, я не умру, меня можно спасти!
– Ты ранен смертельно, и не дай я тебе этой жидкости, ты был бы уже мертв. Слушай же!
– Странный вы священник! – прошептал Кадрусс. – Вместо того чтобы утешать умирающих, вы лишаете их последней надежды!
– Слушай, – продолжал аббат, – когда ты предал своего друга, бог, еще не карая, предостерег тебя: ты впал в нищету, ты познал голод. Половину той жизни, которую ты мог посвятить приобретению земных благ, ты предавался зависти. Уже тогда ты думал о преступлении, оправдывал себя в собственных глазах нуждою. Господь явил тебе чудо, из моих рук даровал тебе в твоей нищете богатство, несметное для такого бедняка, как ты. Но это богатство, нежданное, негаданное, неслыханное, кажется тебе уже недостаточным, как только оно у тебя в руках; тебе хочется удвоить его. Каким же способом? Убийством. Ты удвоил его, и господь отнял его у тебя и поставил тебя перед судом людей.
– Это не я, – сказал Кадрусс, – не я хотел убить еврея, это Карконта.
– Да, – сказал Монте-Кристо. – И господь в бесконечном своем милосердии не покарал тебя смертью, которой ты по справедливости заслуживал, но позволил, чтобы твои слова тронули судей, и они оставили тебе жизнь.
– Как же! И отправили меня на вечную каторгу! Хороша милость!
– Эту милость, несчастный, ты, однако, считал милостью, когда она была тебе оказана. Твое подлое сердце, трепещущее в ожидании смерти, забилось от радости, услышав о твоем вечном позоре, потому что ты, как и все каторжники, сказал себе: с каторги можно уйти, а из могилы нельзя. И ты оказался прав; ворота тюрьмы неожиданно раскрылись для тебя. В Тулон приезжает англичанин, который дал обет избавить двух людей от бесчестия; его выбор падает на тебя и на твоего товарища; на тебя сваливается с неба новое счастье, у тебя есть и деньги, и покой, ты можешь снова зажить человеческой жизнью, – ты, который был обречен на жизнь каторжника; тогда, несчастный, ты искушаешь господа в третий раз. Мне этого мало, говоришь ты, когда на самом деле у тебя было больше, чем когда-либо раньше, и ты совершаешь третье преступление, ничем не вызванное, ничем не оправданное. Терпение господне истощилось. Господь покарал тебя.
Кадрусс слабел на глазах.
– Пить, – сказал он, – дайте пить… я весь горю!
Монте-Кристо подал ему стакан воды.
– Подлец Бенедетто, – сказал Кадрусс, отдавая стакан, – он-то вывернется.
– Никто не вывернется, говорю я тебе… Бенедетто будет наказан!
– Тогда и вы тоже будете наказаны, – сказал Кадрусс, – потому что вы не исполнили свой долг священника… Вы должны были помешать Бенедетто убить меня.
– Я! – сказал граф с улыбкой, от которой кровь застыла в жилах умирающего. – Я должен был помешать Бенедетто убить тебя, после того как ты сломал свой нож о кольчугу на моей груди!.. Да, если бы я увидел твое смирение и раскаяние, я, быть может, и помешал бы Бенедетто убить тебя, но ты был дерзок и коварен, и я дал свершиться воле божьей.
– Я не верю в бога! – закричал Кадрусс. – И ты тоже не веришь в него… ты лжешь… лжешь!..
– Молчи, – сказал аббат, – ты теряешь последние капли крови, еще оставшиеся в твоем теле… Ты не веришь в бога, а умираешь, пораженный его рукой! Ты не веришь в бога, а бог ждет только одной молитвы, одного слова, одной слезы, чтобы простить… Бог, который мог так направить кинжал убийцы, чтобы ты умер на месте, бог дал тебе эти минуты, чтобы раскаяться… Загляни в свою душу и покайся!
– Нет, – сказал Кадрусс, – нет, я ни в чем не раскаиваюсь. Бога нет, провидения нет, есть только случай.
– Есть провидение, есть бог, – сказал Монте-Кристо. – Смотри: вот ты умираешь, в отчаянии отрицая бога, а я стою перед тобой, богатый, счастливый, в расцвете сил, и возношу молитвы к тому богу, в которого ты пытаешься не верить и все же веришь в глубине души.
– Но кто же вы? – сказал Кадрусс, устремив померкнувшие глаза на графа.
– Смотри внимательно, – сказал Монте-Кристо, беря свечу и поднося ее к своему лицу.
– Вы аббат… аббат Бузони…
Монте-Кристо сорвал парик и встряхнул длинными черными волосами, так красиво обрамлявшими его бледное лицо.
– Боже, – с ужасом сказал Кадрусс, – если бы не черные волосы, я бы сказал, что вы тот англичанин, лорд Уилмор.
– Я не аббат Бузони и не лорд Уилмор, – ответил Монте-Кристо. – Вглядись внимательно, вглядись в прошлое, в самые давние твои воспоминания.
В этих словах графа была такая магнетическая сила, что слабеющие чувства несчастного ожили в последний раз.
– В самом деле, – сказал он, – я словно уже где-то видел вас, я вас знал когда-то.
– Да, Кадрусс, ты меня видел, ты меня знал.
– Но кто же вы наконец? И почему, если вы меня знали, вы даете мне умереть?
– Потому что ничто не может тебя спасти, Кадрусс, раны твои смертельны. Если бы тебя можно было спасти, я увидел бы в этом последний знак милосердия господня, и я бы попытался, клянусь тебе могилой моего отца, вернуть тебя к жизни и раскаянию.
– Могилой твоего отца! – сказал Кадрусс, в котором вспыхнула последняя искра жизни, и приподнялся, чтобы взглянуть поближе на человека, который произнес эту священнейшую из клятв. – Да кто же ты?
Граф не переставал следить за ходом агонии. Он понял, что эта вспышка – последняя; он наклонился над умирающим и остановил на нем спокойный и печальный взор.
– Я… – сказал он ему на ухо, – я…
И с его еле раскрытых губ слетело имя, произнесенное так тихо, словно он сам боялся услышать его.
Кадрусс приподнялся на колени, вытянул руки, отшатнулся, потом сложил ладони и последним усилием воздел их к небу.
– О боже мой, боже мой, – сказал он, – прости, что я отрицал тебя; ты существуешь, ты поистине отец небесный и судья земной! Господи боже мой, я долго не верил в тебя! Господи, прими душу мою!
И Кадрусс, закрыв глаза, упал навзничь с последним криком и последним вздохом.
Кровь сразу перестала течь из ран.
Он был мертв.
– Один! – загадочно произнес граф, устремив глаза на труп, обезображенный ужасной смертью.
Десять минут спустя прибыли доктор и королевский прокурор, приведенные один привратником, другой Али, и были встречены аббатом Бузони, молившимся у изголовья мертвеца.
VII. Бошан
В Париже целых две недели только и говорили что об этой дерзкой попытке обокрасть графа. Умирающий подписал заявление, в котором указывал на некоего Бенедетто, как на своего убийцу. Полиции было предписано пустить по следам убийцы всех своих агентов.
Нож Кадрусса, потайной фонарь, связка отмычек и вся его одежда, исключая жилет, которого нигде не нашли, были приобщены к делу; труп был отправлен в морг.
Граф всем отвечал, что все это произошло, пока он был у себя в Отейле, и что, таким образом, он знает об этом только со слов аббата Бузони, который, по странной случайности, попросил позволения провести эту ночь у него в доме, чтобы сделать выписки из некоторых редчайших книг, имеющихся в его библиотеке.
Один только Бертуччо бледнел каждый раз, когда при нем произносили имя Бенедетто, но никто не интересовался цветом лица Бертуччо.
Вильфор, призванный на место преступления, пожелал сам заняться делом и вел следствие с тем страстным рвением, с каким он относился ко всем уголовным делам, которые вел лично.
Но прошло уже три недели, а самые тщательнейшие розыски не привели ни к чему; в обществе начинали забывать об этом покушении и об убийстве вора его сообщником и занялись предстоящей свадьбой мадемуазель Данглар и графа Андреа Кавальканти.
Этот брак был почти уже официально объявлен, и Андреа бывал в доме банкира на правах жениха.
Написали Кавальканти-отцу; тот весьма одобрил этот брак, очень жалел, что служба мешает ему покинуть Парму, где он сейчас находится, и изъявил согласие выделить капитал, приносящий полтораста тысяч ливров годового дохода.
Было условлено, что три миллиона будут помещены у Данглара, который пустит их в оборот; правда, нашлись люди, выразившие молодому человеку свои сомнения в устойчивом положении дел его будущего тестя, который за последнее время терпел на бирже неудачу за неудачей; но Андреа, преисполненный высокого доверия и бескорыстия, отверг все эти пустые слухи и был даже настолько деликатен, что ни слова не сказал о них барону.
Недаром барон был в восторге от графа Андреа Кавальканти.
Что касается мадемуазель Эжени Данглар, – в своей инстинктивной ненависти к замужеству она была рада появлению Андреа, как способу избавиться от Морсера; но когда Андреа сделался слишком близок, она начала относиться к нему с явным отвращением.
Быть может, барон это и заметил; но так как он мог приписать это отвращение только капризу, то сделал вид, что не замечает его.
Между тем выговоренная Бошаном отсрочка приходила к концу. Кстати, Морсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглохнуть; никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришло в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок, благородного графа, заседающего в Палате пэров.
Тем не менее Альбер считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Бошана в конце их беседы оставило в его душе горький осадок. Поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Бошан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов.
Бошана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него; всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал.
Где же он был? Никто этого не знал.
Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Бошана. Альбер протер глаза, велел попросить Бошана подождать внизу, в курительной, быстро оделся и спустился вниз.
Он застал Бошана шагающим из угла в угол. Увидев его, Бошан остановился.
– То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком, – сказал Альбер. – Ну, говорите скорей, могу ли я протянуть вам руку и сказать: Бошан, признайтесь, что вы были не правы, и останьтесь моим другом. Или же я должен просто спросить вас, какое оружие вы выбираете?
– Альбер, – сказал Бошан с печалью в голосе, изумившей Морсера, – прежде всего сядем и поговорим.
– Но мне казалось бы, сударь, что, прежде чем сесть, вы должны дать мне ответ?
– Альбер, – сказал журналист, – бывают обстоятельства, когда всего труднее – дать ответ.
– Я вам это облегчу, сударь, повторив свой вопрос: берете вы обратно свою заметку, да или нет?
– Морсер, так просто не отвечают: да или нет, когда дело касается чести, общественного положения, самой жизни такого человека, как генерал-лейтенант граф де Морсер, пэр Франции.
– А что же в таком случае делают?
– Делают то, что сделал я, Альбер. Говорят себе: деньги, время и усилия не играют роли, когда дело идет о репутации и интересах целой семьи. Говорят себе: мало одной вероятности, нужна уверенность, когда идешь биться насмерть с другом. Говорят себе: если мне придется скрестить шпагу или обменяться выстрелом с человеком, которому я в течение трех лет дружески жал руку, то я по крайней мере должен знать, почему я это делаю, чтобы иметь возможность явиться к барьеру с чистым сердцем и спокойной совестью, которые необходимы человеку, когда он защищает свою жизнь.
– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо сказал Альбер, – но что все это значит?
– Это значит, что я только что вернулся из Янины.
– Из Янины? Вы?
– Да, я.
– Не может быть!
– Дорогой Альбер, вот мой паспорт; взгляните на визы: Женева, Милан, Венеция, Триест, Дельвино, Янина. Вы, надеюсь, поверите полиции одной республики, одного королевства и одной империи?
Альбер бросил взгляд на паспорт и с изумлением посмотрел на Бошана.
– Вы были в Янине? – переспросил он.
– Альбер, если бы вы были мне чужой, незнакомец, какой-нибудь лорд, как тот англичанин, который явился несколько месяцев тому назад требовать у меня удовлетворения и которого я убил, чтобы избавиться от него, вы отлично понимаете, я не взял бы на себя такой труд; но мне казалось, что из уважения к вам я обязан это сделать. Мне потребовалась неделя, чтобы доехать туда, неделя на возвращение; четыре дня карантина и двое суток на месте, – это составило ровно три недели. Сегодня ночью я вернулся, и вот я у вас.
– Боже мой, сколько предисловий, Бошан! Почему вы медлите и не говорите того, чего я жду от вас!
– По правде говоря, Альбер…
– Можно подумать, что вы не решаетесь.
– Да, я боюсь.
– Вы боитесь признаться, что ваш корреспондент обманул вас? Бросьте самолюбие, Бошан, и признайтесь, ведь в вашей храбрости никто не усомнится.
– Совсем не так, – прошептал журналист, – как раз наоборот…
Альбер смертельно побледнел; он хотел что-то сказать, но слова замерли у него на губах.
– Друг мой, – сказал Бошан самым ласковым голосом, – поверьте, я был бы счастлив принести вам мои извинения и принес бы их от всей души; но, увы…
– Но что?
– Заметка соответствовала истине, друг мой.
– Как! Этот французский офицер…
– Да.
– Этот Фернан?
– Да.
– Изменник, который выдал замки паши, на службе у которого состоял…
– Простите меня за то, что я должен вам сказать, мой друг; этот человек – ваш отец!
Альбер сделал яростное движение, чтобы броситься на Бошана, но тот удержал его не столько рукой, сколько ласковым взглядом.
– Вот, друг мой, – сказал он, вынимая из кармана бумагу, – вот доказательство.
Альбер развернул бумагу; то было заявление четырех именитых граждан Янины, удостоверяющее, что полковник Фернан Мондего, полковник-инструктор на службе у визиря Али-Тебелина, выдал Янинский замок за две тысячи кошельков.
Подписи были заверены консулом.
Альбер пошатнулся и, сраженный, упал в кресло.
Теперь уже не могло быть сомнений, фамилия значилась полностью.
После минуты немого отчаяния он не выдержал, все его тело напряглось, из глаз брызнули слезы.
Бошан, с глубокой скорбью глядевший на убитого горем друга, подошел к нему.
– Альбер, – сказал он, – теперь вы меня понимаете? Я хотел лично все видеть, во всем убедиться, надеясь, что все разъяснится в смысле, благоприятном для вашего отца, и что я смогу защитить его доброе имя. Но, наоборот, из собранных мною сведений явствует, что этот офицер-инструктор Фернан Мондего, возведенный Али-пашой в звание генерал-губернатора, не кто иной, как граф Фернан де Морсер; тогда я вернулся сюда, помня, что вы почтили меня своей дружбой, и бросился к вам.
Альбер все еще полулежал в кресле, закрыв руками лицо, словно желая скрыться от дневного света.
– Я бросился к вам, – продолжал Бошан, – чтобы сказать вам: Альбер, проступки наших отцов в наше беспокойное время не бросают тени на детей. Альбер, немногие прошли через все революции, среди которых мы родились, без того, чтобы их военный мундир или судейская мантия не оказались запятнаны грязью или кровью. Никто на свете теперь, когда у меня все доказательства, когда ваша тайна в моих руках, не может заставить меня принять вызов, который ваша собственная совесть, я в этом уверен, сочла бы преступлением; но то, чего вы больше не вправе от меня требовать, я вам добровольно предлагаю. Хотите, чтобы эти доказательства, эти разоблачения, свидетельства, которыми располагаю я один, исчезли навсегда? Хотите, чтобы эта страшная тайна осталась между вами и мной? Доверенная моей чести, она никогда не будет разглашена. Скажите, вы этого хотите, Альбер? Вы этого хотите, мой друг?
Альбер бросился Бошану на шею.
– Мой благородный друг! – воскликнул он.
– Возьмите, – сказал Бошан, подавая Альберу бумаги.
Альбер судорожно схватил их, сжал их, смял, хотел было разорвать; но, подумав, что, быть может, когда-нибудь ветер поднимет уцелевший клочок и коснется им его лба, он подошел к свече, всегда зажженной для сигар, и сжег их все, до последнего клочка.
– Дорогой, несравненный друг! – шептал Альбер, сжигая бумаги.
– Пусть все это забудется, как дурной сон, – сказал Бошан, – пусть все это исчезнет, как эти последние искры, бегущие по почерневшей бумаге, пусть все это развеется, как этот последний дымок, вьющийся над безгласным пеплом.
– Да, да, – сказал Альбер, – и пусть от всего этого останется лишь вечная дружба, в которой я клянусь вам, мой спаситель. Эту дружбу будут чтить наши дети, она будет служить мне вечным напоминанием, что честью моего имени я обязан вам. Если бы кто-нибудь узнал об этом, Бошан, говорю вам, я бы застрелился; или нет, ради моей матери я остался бы жить, но я бы покинул Францию.
– Милый Альбер! – промолвил Бошан.
Но Альбера быстро оставила эта внезапная и несколько искусственная радость, и он впал в еще более глубокую печаль.
– В чем дело? – спросил Бошан. – Скажите, что с вами?
– У меня что-то сломалось в душе, – сказал Альбер. – Знаете, Бошан, не так легко сразу расстаться с тем уважением, с тем доверием, с той гордостью, которую внушает сыну незапятнанное имя отца. Ах, Бошан! Как я встречусь теперь с отцом? Отклоню лоб, когда он приблизит к нему губы, отдерну руку, когда он протянет мне свою?.. Знаете, Бошан, я несчастнейший из людей. Несчастная моя матушка! – продолжал он, глядя сквозь слезы на портрет графини. – Если она знала об этом, как она должна была страдать!
– Крепитесь, мой друг! – сказал Бошан, беря его за руку.
– Но каким образом попала эта заметка в вашу газету? – воскликнул Альбер. – За всем этим кроется чья-то ненависть, какой-то невидимый враг.
– Тем более надо быть мужественным, – сказал Бошан. – На вашем лице не должно быть никаких следов волнения; носите это горе в себе, как туча несет в себе погибель и смерть, роковую тайну, которую никто не видит, пока не грянет гроза. Друг, берегите ваши силы для той минуты, когда она грянет.
– Разве вы думаете, что это не конец? – в ужасе спросил Альбер.
– Я ничего не думаю, но в конце концов все возможно. Кстати…
– Что такое? – спросил Альбер, видя, что Бошан колеблется.
– Вы все еще считаетесь женихом мадемуазель Данглар?
– Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас?
– Потому что, мне кажется, вопрос о том, состоится этот брак или нет, связан с тем, что нас сейчас занимает.
– Как! – вспыхнул Альбер. – Вы думаете, что Данглар…
– Я вас просто спрашиваю, как обстоит дело с вашей свадьбой. Черт возьми, не выводите из моих слов ничего другого, кроме того, что я в них вкладываю, и не придавайте им такого значения, какого у них нет!
– Нет, – сказал Альбер, – свадьба расстроилась.
– Хорошо. – Потом, видя, что молодой человек снова опечалился, Бошан сказал: – Знаете, Альбер, послушайтесь моего совета, выйдем на воздух; прокатимся по Булонскому лесу в экипаже или верхом; это вас успокоит; потом заедем куда-нибудь позавтракать, а после каждый из нас пойдет по своим делам.
– С удовольствием, – сказал Альбер, – но только пойдем пешком, я думаю, мне будет полезно немного утомиться.
– Пожалуй, – сказал Бошан.
И друзья вышли и пешком пошли по бульвару. Дойдя до церкви Мадлен, Бошан сказал:
– Слушайте, раз уж мы здесь, зайдем к графу Монте-Кристо, он развлечет вас; он превосходно умеет отвлекать людей от их мыслей, потому что никогда ни о чем не спрашивает; а, по-моему, люди, которые никогда ни о чем не спрашивают, самые лучшие утешители.
– Пожалуй, – сказал Альбер, – зайдем к нему, я его люблю.
VIII. Путешествие
Монте-Кристо очень обрадовался, увидев, что молодые люди пришли вместе.
– Итак, я надеюсь, все кончено, разъяснено, улажено? – сказал он.
– Да, – отвечал Бошан, – эти нелепые слухи сами собой заглохли; и если бы они снова всплыли, я первый ополчился бы против них. Не будем больше говорить об этом.
– Альбер вам подтвердит, – сказал граф, – что я ему советовал то же самое. Кстати, – прибавил он, – вы застали меня за неприятнейшим занятием.
– А что вы делали? – спросил Альбер. – Приводили в порядок свои бумаги?
– Только не свои, слава богу! Мои бумаги всегда в образцовом порядке, ибо у меня их нет. Я разбирал бумаги господина Кавальканти.
– Кавальканти? – переспросил Бошан.
– Разве вы не знаете, что граф ему покровительствует? – сказал Альбер.
– Вы не совсем правы, – сказал Монте-Кристо, – я никому не покровительствую, и меньше всего Кавальканти.
– Он женится вместо меня на мадемуазель Данглар, каковое обстоятельство, – продолжал Альбер, пытаясь улыбнуться, – как вы сами понимаете, дорогой Бошан, повергает меня в отчаяние.
– Как! Кавальканти женится на мадемуазель Данглар? – спросил Бошан.
– Вы что же, с неба свалились? – сказал Монте-Кристо. – Вы, журналист, возлюбленный Молвы! Весь Париж только об этом и говорит.
– И это вы, граф, устроили этот брак? – спросил Бошан.
– Я? Пожалуйста, господин создатель новостей, не вздумайте распространять подобные слухи! Бог мой! Чтобы я да устраивал чей-нибудь брак? Нет, вы меня не знаете; наоборот, я всячески противился этому; я отказался быть посредником.
– Понимаю, – сказал Бошан, – из-за вашего друга Альбера.
– Только не из-за меня, – сказал Альбер. – Граф не откажется подтвердить, что я, наоборот, давно просил его расстроить эти планы. Граф уверяет, что не его я должен благодарить за это; пусть так, мне придется, как древним, воздвигнуть алтарь неведомо кому.
– Послушайте, – сказал Монте-Кристо, – это все так далеко от меня, что я даже нахожусь в натянутых отношениях и с тестем, и с женихом; и только мадемуазель Эжени, которая, по-видимому, не имеет особой склонности к замужеству, сохранила ко мне добрые чувства и благодарность за то, что я не старался заставить ее отказаться от дорогой ее сердцу свободы.
– И скоро эта свадьба состоится?
– Да, невзирая на все мои предосторожности. Я ведь не знаю этого молодого человека; говорят, он богат и из хорошей семьи; но для меня все это только «говорят». Я до тошноты повторял это Данглару, но он без ума от своего итальянца. Я счел даже нужным сообщить ему об одном обстоятельстве, по-моему, еще более важном: этого молодого человека не то подменили, когда он был грудным младенцем, не то его украли цыгане, не то его где-то потерял его воспитатель, не знаю точно. Но мне доподлинно известно, что его отец ничего о нем не знал десять с лишним лет. Что он делал эти десять лет бродячей жизни, бог весть. Но и это предостережение не помогло. Мне поручили написать майору, попросить его выслать документы: вот они. Я их посылаю Дангларам, но, как Пилат, умываю руки.
– А мадемуазель д’Армильи? – спросил Бошан. – Она не в обиде на вас, что вы отнимаете у нее ученицу?
– Право, не могу вам сказать; но, по-видимому, она уезжает в Италию. Госпожа Данглар говорила со мной о ней и просила у меня рекомендательных писем к итальянским импресарио; я дал ей записку к директору театра Валле, который мне кое-чем обязан. Но что с вами, Альбер? Вы такой грустный; уж не влюблены ли вы, сами того не подозревая, в мадемуазель Данглар?
– Как будто нет, – сказал Альбер с печальной улыбкой.
Бошан принялся рассматривать картины.
– Во всяком случае, – продолжал Монте-Кристо, – вы не такой, как всегда. Скажите, что с вами?
– У меня мигрень, – сказал Альбер.
– Если так, мой дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, – то я могу предложить вам незаменимое лекарство, которое мне всегда помогает, когда мне не по себе.
– Какое? – спросил Альбер.
– Перемену мест.
– Вот как? – сказал Альбер.
– Да. Я и сам сейчас очень не в духе и собираюсь уехать. Хотите, поедем вместе?
– Вы не в духе, граф, – сказал Бошан, – почему?
– Вам легко говорить; а вот посмотрел бы я на вас, если бы в вашем доме велось следствие!
– Следствие? Какое следствие?
– А как же, сам господин де Вильфор ведет следствие по делу о моем уважаемом убийце, – это какой-то разбойник, бежавший с каторги, по-видимому.
– Ах да, – сказал Бошан, – я читал об этом в газетах. Кто это такой, этот Кадрусс?
– Какой-то провансалец. Вильфор слышал о нем, когда служил в Марселе, а Данглар даже припоминает, что видел его. Поэтому господин королевский прокурор принял самое горячее участие в этом деле, оно, по-видимому, чрезвычайно заинтересовало и префекта полиции. Благодаря их вниманию, за которое я им как нельзя более признателен, мне уже недели две как приводят на дом всех бандитов, каких только можно раздобыть в Париже и его окрестностях, под предлогом, что это убийца Кадрусса. Если так будет продолжаться, через три месяца в славном французском королевстве не останется ни одного жулика, ни одного убийцы, который не знал бы назубок плана моего дома. Мне остается только отдать им его в полное распоряжение и уехать куда глаза глядят. Поедем со мной, виконт!
– С удовольствием.
– Значит, решено?
– Да, но куда же мы едем?
– Я вам уже сказал, туда, где воздух чист, где шум убаюкивает, где, как бы ни был горд человек, он становится смиренным и чувствует свое ничтожество. Я люблю это уничижение, я, которого, подобно Августу, называют властителем Вселенной.
– Но где же это?
– На море, виконт. Я, видите ли, моряк: еще ребенком я засыпал на руках у старого Океана и на груди у прекрасной Амфитриты; я играл его зеленым плащом и ее лазоревыми одеждами; я люблю море, как возлюбленную, и если долго не вижу его, тоскую по нем.
– Поедем, граф!
– На море?
– Да.
– Вы согласны?
– Согласен.
– В таком случае, виконт, у моего крыльца сегодня будет ждать дорожная карета, в которой ехать так же удобно, как в кровати; в нее будут впряжены четыре лошади. Послушайте, Бошан, в моей карете можно очень удобно поместиться вчетвером. Хотите поехать с нами? Я вас приглашаю.
– Благодарю вас, я только что был на море.
– Как, вы были на море?
– Да, почти. Я только что совершил маленькое путешествие на Борромейские острова.
– Все равно поедем! – сказал Альбер.
– Нет, дорогой Морсер, вы должны понять, что, если я отказываюсь от такой чести, значит, это невозможно. Кроме того, – прибавил он, понизив голос, – сейчас очень важно, чтобы я был в Париже, хотя бы уже для того, чтобы следить за корреспонденцией, поступающей в газету.
– Вы верный друг, – сказал Альбер, – да, вы правы; следите, наблюдайте, Бошан, и постарайтесь открыть врага, который опубликовал это сообщение.
Альбер и Бошан простились; в последнее рукопожатие они вложили все то, что не могли сказать при постороннем.
– Славный малый этот Бошан! – сказал Монте-Кристо, когда журналист ушел. – Правда, Альбер?
– Золотое сердце, уверяю вас. Я очень люблю его. А теперь скажите, хотя, в сущности, мне это безразлично, – куда мы отправляемся?
– В Нормандию, если вы ничего не имеете против.
– Чудесно. Мы там будем на лоне природы, правда? Ни общества, ни соседей?
– Мы будем наедине с лошадьми для верховой езды, собаками для охоты и с лодкой для рыбной ловли, вот и все.
– Это то, что мне надо; я предупрежу свою мать, а затем я к вашим услугам.
– А вам разрешат? – спросил Монте-Кристо.
– Что именно?
– Ехать в Нормандию.
– Мне? Да разве я не волен в своих поступках?
– Да, вы путешествуете один, где хотите, это я знаю, ведь мы встретились в Италии.
– Так в чем же дело?
– Но разрешат ли вам уехать с человеком, которого зовут граф Монте-Кристо?
– У вас плохая память, граф.
– Почему?
– Разве я не говорил вам, с какой симпатией моя мать относится к вам?
– Женщины изменчивы, сказал Франциск Первый; женщина подобна волне, сказал Шекспир; один был великий король, другой – великий поэт; и уж, наверное, они оба хорошо знали женскую природу.
– Да, но моя мать не просто женщина, а Женщина.
– Простите, я вас не совсем понял.
– Я хочу сказать, что моя мать скупа на чувства, но уж если она кого-нибудь полюбила, то это на всю жизнь.
– Вот как, – сказал, вздыхая, Монте-Кристо, – и вы полагаете, что она делает мне честь относиться ко мне иначе, чем с полнейшим равнодушием?
– Я вам уже говорил и опять повторяю, – возразил Альбер, – вы, видно, в самом деле очень своеобразный, необыкновенный человек.
– Полно!
– Да, потому что моя матушка не осталась чужда тому, не скажу – любопытству, но интересу, который вы возбуждаете. Когда мы одни, мы только о вас и говорим.
– И она советует вам не доверять этому Манфреду?
– Напротив, она говорит мне: «Альбер, я уверена, что граф благородный человек; постарайся заслужить его любовь».
Монте-Кристо отвернулся и вздохнул.
– В самом деле? – спросил он.
– Так что, вы понимаете, – продолжал Альбер, – она не только не воспротивится моей поездке, но от всего сердца одобрит ее, поскольку это согласуется с ее наставлениями.
– Ну, так до вечера, – сказал Монте-Кристо. – Будьте здесь к пяти часам; мы приедем на место в полночь или в час ночи.
– Как? В Трепор?
– В Трепор или его окрестности.
– Вы думаете за восемь часов проехать сорок восемь лье?
– Это еще слишком долго, – сказал Монте-Кристо.
– Да вы чародей! Скоро вы обгоните не только железную дорогу – это не так уж трудно, особенно во Франции, но и телеграф.
– Но так как нам все же требуется восемь часов, чтобы доехать, не опаздывайте.
– Не беспокойтесь, я совершенно свободен – только собраться в дорогу.
– Итак, в пять часов.
– В пять часов.
Альбер вышел. Монте-Кристо с улыбкой кивнул ему головой и постоял молча, погруженный в глубокое раздумье. Наконец, проведя рукой по лбу, как будто отгоняя от себя думы, он подошел к гонгу и ударил по нему два раза.
Вошел Бертуччо.
– Бертуччо, – сказал Монте-Кристо, – не завтра, не послезавтра, как я предполагал, а сегодня в пять часов я уезжаю в Нормандию; до пяти часов у вас времени больше чем достаточно; распорядитесь, чтобы были предупреждены конюхи первой подставы; со мной едет виконт де Морсер. Ступайте.
Бертуччо удалился, и в Понтуаз поскакал верховой предупредить, что карета проедет ровно в шесть часов. Конюх в Понтуазе послал нарочного к следующей подставе, и та, в свою очередь, дала знать дальше; и шесть часов спустя все подставы, расположенные на пути, были предупреждены.
Перед отъездом граф поднялся к Гайде, сообщил ей, что уезжает, сказал – куда и предоставил весь дом в ее распоряжение.
Альбер явился вовремя. Он сел в карету в мрачном настроении, которое, однако, вскоре рассеялось от удовольствия, доставляемого быстрой ездой. Альбер никогда не представлял себе, чтобы можно было ездить так быстро.
– Во Франции нет никакой возможности передвигаться по дорогам, – сказал Монте-Кристо. – Ужасная вещь эта езда на почтовых, по два лье в час, этот нелепый закон, запрещающий одному путешественнику обгонять другого, не испросив на это разрешения; какой-нибудь больной или чудак может загородить путь всем остальным здоровым и бодрым людям. Я избегаю этих неудобств, путешествуя с собственным кучером и на собственных лошадях. Верно, Али?
И граф, высунувшись из окна, слегка прикрикивал на лошадей, а у них словно вырастали крылья; они уже не мчались – они летели. Карета проносилась, как гром, по Королевской дороге, и все оборачивались, провожая глазами этот сверкающий метеор. Али, слушая эти окрики, улыбался, обнажая свои белые зубы, сжимая своими сильными руками вожжи, и подзадоривал лошадей, пышные гривы которых развевались по ветру. Али, сын пустыни, был в своей стихии и, в белоснежном бурнусе, с черным лицом и сверкающими глазами, окруженный облаком пыли, казался духом самума или богом урагана.
– Вот наслаждение, которого я никогда не знал, – сказал Альбер, – наслаждение быстроты.
И последние тучи, омрачавшие его чело, исчезали, словно уносимые встречным ветром.
– Где вы достаете таких лошадей? – спросил Альбер. – Или вам их делают на заказ?
– Вот именно. Шесть лет тому назад я нашел в Венгрии замечательного жеребца, известного своей резвостью; я его купил уж не помню за сколько; платил Бертуччо. В тот же год он произвел тридцать два жеребенка. Мы с вами сделаем смотр всему потомству этого отца; они все как один, без единого пятнышка, кроме звезды на лбу, потому что этому баловню конского завода выбирали кобыл, как паше выбирают наложниц.
– Восхитительно!.. Но скажите, граф, на что вам столько лошадей?
– Вы же видите, я на них езжу.
– Но ведь не все время вы ездите?
– Когда они мне больше не будут нужны, Бертуччо продаст их; он утверждает, что наживет на этом тысяч сорок.
– Но ведь в Европе даже короли не так богаты, чтобы купить их.
– В таком случае он продаст их любому восточному владыке, который, чтобы купить их, опустошит свою казну и снова наполнит ее при помощи палочных ударов по пяткам своих подданных.
– Знаете, граф, что мне пришло в голову?
– Говорите.
– Мне думается, что после вас самый богатый человек в Европе это господин Бертуччо.
– Вы ошибаетесь, виконт. Я уверен, если вывернуть карманы Бертуччо, не найдешь и гроша.
– Неужели? – сказал Альбер. – Так ваш Бертуччо тоже чудо? Не заводите меня так далеко в мир чудес, дорогой граф, не то, предупреждаю, я перестану вам верить.
– У меня нет никаких чудес, Альбер; цифры и здравый смысл – вот и все. Вот вам задача: управляющий ворует, но почему он ворует?
– Такова его природа, мне кажется, – сказал Альбер, – он ворует, потому что не может не воровать.
– Вы ошибаетесь: он ворует потому, что у него есть жена, дети, потому что он хочет упрочить положение свое и своей семьи, а главное, он не уверен в том, что никогда не расстанется со своим хозяином, и хочет обеспечить свое будущее. А Бертуччо один на свете; он распоряжается моим кошельком, не преследуя личного интереса; он уверен, что никогда не расстанется со мной.