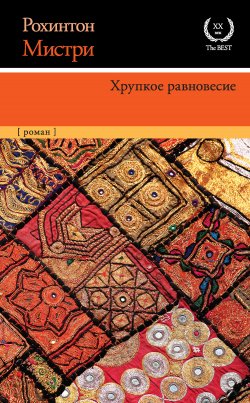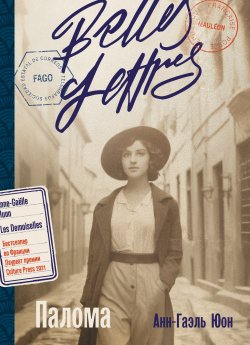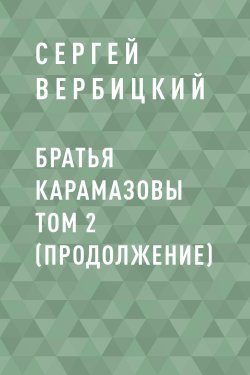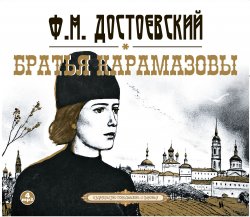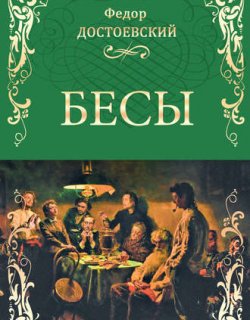Жми, тут можно >>> Аудиокниги слушать онлайнбесплатно
Братья Карамазовы - Достоевский Федор Михайлович

-
Тип:Электронные книги
- Жанр:Скачать книги / Читать книги онлайн / Классика книги / Популярные книги / Рассказы книги
Скачать книгу Братья Карамазовы - Достоевский Федор Михайлович бесплатно
Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру: именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой Смердяков, особливо. Бог знает на каких основаниях он у них поселился: даром ли проживал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать и дочь его очень уважали и смотрели на него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас… Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновою, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего; затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигом мелькнуло Ивану, и все это он сразу обхватил и заметил, а главное – взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: «чего, дескать, шляешься, обо всем ведь тогда сговорились, зачем же опять пришел?» Иван Федорович едва сдержал себя:
– Жарко у тебя, – сказал он, еще стоя, и расстегнул пальто.
– Снимите-с, – позволил Смердяков.
Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку, дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его.
– Во-первых, одни ли мы? – строго и стремительно спросил Иван Федорович. – Не услышат нас оттуда?
– Никто ничего не услышит-с. Сами видели: сени.
– Слушай, голубчик: что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в падучей, то и ты-де не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? Что это такое всего? Что ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобою вступал, боюсь тебя, что ли?
Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ: «Хочешь, дескать, начистоту, так вот тебе и эта самая чистота».
– А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произносил, что вы, знамши наперед про это убивство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем, – вот что тогда обещался я начальству не объявлять.
Проговорил Смердяков хоть и не спеша и обладая собою по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах зарябило:
– Как? Что? Да ты в уме али нет?
– Совершенно в полном своем уме-с.
– Да разве я знал тогда про убийство? – вскричал наконец Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. – Что значит: «об чем ином прочем»? – говори, подлец!
Смердяков молчал и все тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича.
– Говори, смердящая шельма, об чем «ином прочем»? – завопил тот.
– А об том «ином прочем» я сею минутой разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.
Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг все лицо его облилось слезами, и, проговорив: «Стыдно, сударь, слабого человека бить!», он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту.
– Довольно! Перестань! – повелительно сказал наконец Иван Федорович, садясь опять на стул. – Не выводи меня из последнего терпения.
Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.
– Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить?
– Мыслей ваших тогдашних не знал-с, – обиженно проговорил Смердяков, – а потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать-с.
– Что испытать? Что?
– А вот именно это самое обстоятельство: хочется иль не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?
Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.
– Это ты его убил! – воскликнул он вдруг.
Смердяков презрительно усмехнулся.
– Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего.
– Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?
– Как уж известно вам, от единого страху-с. Ибо в таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха.
– Слушай, ты две недели назад не то говорил.
– То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с.
– Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?
– Чтоб убить – это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.
– И как спокойно, как спокойно ведь говорит! Да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?
– Как это так на кой ляд-с? А наследство-то-с? – ядовито и как-то даже отмстительно подхватил Смердяков. – Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло прийтись, а может, и того больше-с, а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с, Аграфене Александровне, так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо они очень не глупые-с, так что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. А много ль тогда до венца-то оставалось? Один волосок-с: стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык побежали.
Иван Федорович со страданием сдержал себя.
– Хорошо, – проговорил он наконец, – ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше: стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и рассчитывал?
– Как же вам на них не рассчитывать было-с; ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали!
– Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй: если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж конечно бы на тебя, а не на Дмитрия, и, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости… тогда… я помню мое впечатление!
– И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, – насмешливо осклабился Смердяков, – так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь убить родителя, а я не препятствую.
– Подлец! Ты так понял!
– А все чрез эту самую Чермашню-с. Помилосердуйте! Собираетесь в Москву и на все просьбы родителя ехать в Чермашню отказались-с! И по одному только глупому моему слову вдруг согласились-с! И на что вам было тогда соглашаться на эту Чермашню? Коли не в Москву, а поехали в Чермашню без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали.
– Нет, клянусь, нет! – завопил, скрежеща зубами, Иван.
– Как же это нет-с? Следовало, напротив, за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать-с… по крайности по мордасам тут же на месте отколотить, а вы, помилуйте-с, напротив, нимало не рассердимшись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову-с и едете, что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя… Как же мне было не заключить?
Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена.
– Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам, – горько усмехнулся он. – В часть тогда тебя тащить нельзя было: кто ж бы мне поверил и на что я мог указать, ну а по мордасам… ух, жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу.
Смердяков почти с наслаждением смотрел на него.
– В обыкновенных случаях жизни, – проговорил он тем самодовольно-доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича, – в обыкновенных случаях жизни мордасы ноне действительно запрещены по закону, и все перестали бить-с, ну, а в отличительных случаях жизни, так не то что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная французская республика, все одно продолжают бить, как и при Адаме и Еве-с, да и никогда того не перестанут-с, а вы и в отличительном случае тогда не посмели-с.
– Что это ты французские вокабулы учишь? – кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе.
– А почему же бы мне их не учить-с, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть.
– Слушай, изверг, – засверкал глазами Иван и весь затрясся, – я не боюсь твоих обвинений, показывай на меня что хочешь, и если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу!
– А по-моему, лучше молчите-с. Ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности и кто вам поверит? А только если начнете, то и я все расскажу-с, ибо как же бы мне не защитить себя?
– Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?
– Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с.
– Это значит опять-таки что: «с умным человеком и поговорить любопытно» – а? – проскрежетал Иван.
– В самую точку изволили-с. Умным и будьте-с.
Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. «Идти объявить сейчас на Смердякова? Но что же объявить: он все-таки невинен. Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? – спрашивал Иван Федорович. – Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав…» И ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы, но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте как пронзенный: «Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства! Хотел ли я убийства, хотел ли?.. Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..» Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением: он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердяковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться, сколько та ни уговаривала его, все ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм:
– Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его – еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я.
Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алеше как о «математическом доказательстве», что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне, в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке; неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире «Столичный город», где как следует и напился. Пьяный, он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно «пьяное». Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек и как он тому подлецу задаст, – и все это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, недостало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания: «Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдам тебе твои три тысячи, и прощай – великого гнева женщина, но прощай и любовь моя! Кончим! Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай: легче и мне и тебе! Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала, как же ты можешь простить? Убью вора моего! От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай!
Р. S. Проклятие пишу, а тебя обожаю! Слышу в груди моей. Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам! Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор! Жди трех тысяч. У пса под тюфяком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно: Димитрий не вор, а убийца! Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И тебя не любить.
РР. S. Ноги твои целую, прощай!
РР. SS. Катя, моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут – в крови! Убей меня!
Раб и враг
Д. Карамазов».
Когда Иван прочел «документ», то встал убежденный. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то, стало быть, и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Чрез несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», – сказал раз про него молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее «возвраты» к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем все больше и больше, понимал в то же время, что не за «возвраты» к нему Кати ненавидел его, а именно за то, что он убил отца! Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее дней за десять пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства, – план, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая незаживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решился пожертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтоб устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» – спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об этом потом… Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алеше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он (то есть Митя) убийца!» Вспомнив это, Иван даже остолбенел: никогда в жизни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напротив, это она, она ему выложила тогда «документ» и доказала виновность брата! И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама была у Смердякова!» Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити! И что мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. «Я убью его, может быть, в этот раз», – подумал он дорогой.
VIII
Третье, и последнее, свидание со Смердяковым
Еще на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню:
Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать!
Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет!» – подумал Иван и зашагал опять к Смердякову.
Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович (то есть Смердяков) оченно больны-с, не то что лежат-с, а почти как не в своем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели.
– Что ж он, буянит, что ли? – грубо спросил Иван Федорович.
– Какое, напротив, совсем тихие-с, только вы с ними не очень долго разговаривайте… – попросила Марья Кондратьевна.
Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу.
Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены: одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была постлана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков все в том же своем халате. Стол перенесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее, он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.
– Да ты и впрямь болен? – остановился Иван Федорович. – Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?
Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел.
– Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом, и клянусь, не уйду от тебя без ответа: была у тебя барыня, Катерина Ивановна?
Смердяков длинно помолчал, по-прежнему все тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.
– Чего ты? – воскликнул Иван.
– Ничего.
– Что ничего?
– Ну, была, ну и все вам равно. Отстаньте-с.
– Нет, не отстану! Говори, когда была?
– Да я и помнить об ней забыл, – презрительно усмехнулся Смердяков и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступленно-ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание, месяц назад.
– Сами, кажись, больны, ишь осунулись, лица на вас нет, – проговорил он Ивану.
– Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.
– А чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?
Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.
– Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! – в страшном раздражении крикнул Иван.
– Чего вы ко мне пристаете-с? Чего меня мучите? – со страданием проговорил Смердяков.
– Э, черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду.
– Нечего мне вам отвечать! – опять потупился Смердяков.
– Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать!
– Чего вы все беспокоитесь? – вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какою-то уже гадливостью, – это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.
– Не понимаю я тебя… чего мне бояться завтра? – удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.
– Не по-ни-маете? – протянул он укоризненно. – Охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!
Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз.
– Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой, не вы убили.
Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша.
– Я знаю, что не я… – пролепетал было он.
– Зна-е-те? – опять подхватил Смердяков.
Иван вскочил и схватил его за плечо:
– Говори все, гадина! Говори все!
Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумною ненавистью приковался к нему глазами.
– Ан вот вы-то и убили, коль так, – яростно прошептал он ему.
Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся.
– Это ты все про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?
– Да и в прошлый раз стояли предо мной и все понимали, понимаете и теперь.
– Понимаю только, что ты сумасшедший.
– Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, друг-то друга морочить, комедь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил.
– Совершил? Да разве ты убил? – похолодел Иван.
Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно, его, наконец, поразил своею искренностью испуг Ивана.
– Да неужто ж вы вправду ничего не знали? – пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза.
Иван все глядел на него, у него как бы отнялся язык.
Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать, —
прозвенело вдруг в его голове.
– Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? – пролепетал он.
– Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.
– Кто он? Кто находится? Кто третий? – испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.
– Третий этот – Бог-с, самое это Провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.
– Ты солгал, что ты убил! – бешено завопил Иван. – Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!
Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, все пытливо следил за ним. Все еще он никак не мог победить своей недоверчивости, все еще казалось ему, что Иван «все знает», а только так представляется, чтоб «ему же в глаза на него одного свалить».
– Подождите-с, – проговорил он наконец слабым голосом и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.
– Сумасшедший! – завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, нимало не смутившись его испугом, все еще копался в чулке, как будто все силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол.
– Вот-с! – сказал он тихо.
– Что? – ответил трясясь Иван.
– Извольте взглянуть-с, – так же тихо произнес Смердяков.
Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы как будто от прикосновения какого-то отвратительного, страшного гада.
– Пальцы-то у вас все дрожат-с, в судороге, – заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки сторублевых радужных кредиток.
– Все здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите‑с, – пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен как платок.
– Ты меня испугал… с этим чулком… – проговорил он, как-то странно ухмыляясь.
– Неужто же, неужто вы до сих пор не знали? – спросил еще раз Смердяков.
– Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал. Брат! Брат! Ах! – Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. – Слушай: ты один убил? Без брата или с братом?
– Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинны-с.
– Хорошо, хорошо… Обо мне потом. Чего это я всё дрожу… Слова не могу выговорить.
– Всё тогда смелы были-с, «все, дескать, позволено», говорили-с, а теперь вот так испугались! – пролепетал, дивясь, Смердяков. – Лимонаду не хотите ли, сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.
И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие.
– Не хочу лимонаду, – сказал он. – Обо мне потом. Садись и говори: как ты это сделал? Все говори…
– Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.
Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.
– Говори же, пожалуйста, говори!
Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков все теперь скажет.
– Об том, как это было сделано-с? – вздохнул Смердяков. – Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов…
– Об моих словах потом, – прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. – Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Все по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное подробности. Прошу.
– Вы уехали, я упал тогда в погреб-с…
– В падучей или притворился?
– Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли.
– Стой! И все время, и потом, и в больнице все притворялся?
– Никак нет-с. На другой же день, наутро, до больницы еще, ударила настоящая, и столь сильная, что уже много лет таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве.
– Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.
– Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные они всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Все ожидал Дмитрия Федоровича.
– Как ждал, к себе?
– Зачем ко мне. В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут, ибо им, меня лишимшись и никаких сведений не имемши, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор-с, как они умели-с, и что ни есть совершить.
– А если бы не пришел?
– Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы.
– Хорошо, хорошо… говори понятнее, не торопись, главное – ничего не пропускай!
– Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с… это наверно-с. Потому я их уже так приготовил… в последние дни-с… а главное – те знаки им стали известны. При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилась, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспременно. Я так их и ожидал-с.
– Стой, – прервал Иван, – ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.
– Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке по крайней мере под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убивство, то, ничего не найдя, или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с, на другой день али даже в ту же самую ночь-с за образа слазить и деньги эти самые унести-с, все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.
– Ну, а если б он не убил, а только избил?
– Если бы не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел и осталось бы втуне. Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепартую, что это никто как Дмитрий Федорович, их избимши, деньги похитили.
– Стой… я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?
– Нет, это не они убили-с. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они… да не хочу я теперь пред вами лгать, потому… потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, все знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!
– Почему, почему я убийца? О Боже! – не выдержал наконец Иван, забыв, что всё о себе отложил под конец разговора. – Это все та же Чермашня-то? Стой, говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял Чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь?
– Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти три тысячи, возвратясь, вопля не подымете, если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило али с Дмитрием Федоровичем в товарищах; напротив, от других защитили бы… А наследство получив, так и потом когда могли меня наградить, во всю следующую жизнь, потому что все же вы через меня наследство это получить изволили, а то, женимшись на Аграфене Александровне, вышел бы вам один только шиш.
– А! Так ты намеревался меня и потом мучить, всю жизнь! – проскрежетал Иван. – А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил?
– А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в Чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора нашего поехали бы али остались. Если б остались, то тогда бы ничего и не произошло, я бы так и знал-с, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете и три эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда все и рассказал бы на суде-с, то есть не то, что я украл аль убил, – этого бы я не сказал-с, – а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтоб украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть-с, потому что где же у вас к тому доказательство, я же вас всегда мог припереть-с, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово – в публике все бы тому поверили и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь.
– Так имел, так имел я эту жажду, имел? – проскрежетал опять Иван.
– Несомненно имели-с и согласием своим мне это дело молча тогда разрешили-с, – твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это предчувствовал.
– Продолжай дальше, – сказал он ему, – продолжай про ту ночь.
– Дальше что же-с! Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильич пред тем вдруг поднялись и вышли и вдруг завопили, а потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошел-с – вижу налево окно в сад у них отперто, я и еще шагнул налево-то-с, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, думаю! Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать». А он мне: «Был, был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. «Григория убил!» – «Где?» – шепчу ему. «Там, в углу», – указывает, сам тоже шепчет. «Подождите», – говорю. Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову и тотчас тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич если и живы еще, то, лежа в бесчувствии, пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь, как младенец: «Где здесь? Где?» – так и охает, а сам еще не верит. «Там, говорю, стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно-то и верит и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня и не пускает всего. «Где она, где она?» – смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю: уж коль меня так боится – плохо! и тут у меня даже ноги ослабели от страху у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню тогда, сам, должно быть, бледен пред ним стоял. Шепчу ему: «Да там, там она под окном, как же вы, говорю, не видели?» – «А ты ее приведи, а ты ее приведи!» – «Да боится, говорю, крику испугалась, в куст спряталась, подите крикните, говорю, сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька, кричит, Грушенька, здесь ты?» Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, говорю (подошел я к окну, сам весь высунулся), вон она в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясусь. Прямо к той яблоньке, что с дуплом, – вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел, в нем уж лежала тряпочка и бумага, давно заготовил; обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там с лишком две недели оставалась, сумма-то эта самая-с, потом уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лег да и думаю в страхе: «Вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и очнется, то оченно хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть, они и убили, и деньги унесли-с». Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут-с все это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был.
Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он видимо сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние или что.
– Стой, – подхватил, соображая, Иван. – А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий отворенною? Потому ведь Григорий видел прежде тебя?
Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем незлобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.
– Насчет этой двери и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось, – искривленно усмехнулся Смердяков. – Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему, что видел, – вот его уж и не собьете-с. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича несомненно после того вконец уличат.
– Слушай, – проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, – слушай… Я много хотел спросить тебя еще, но забыл… Я все забываю и путаюсь… Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес… Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить… а почему так надо – не могу понять…
– А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек-с с какой же бы стати, если примерно это он убил, стал бы тогда, после убивства, этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспременно лежат-с? Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмитрий Федорович: они об пакете только понаслышке знали, его самого не видели, и вот как достали его примерно будто из-под тюфяка, то поскорее распечатали его тут же, чтобы справиться: есть ли в нем в самом деле эти самые деньги? А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный-с и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с, а если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись зараньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в опросе моем не то что ясно сказал, а, напротив, как будто намеком подвел-с, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказал-с, – так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюнки потекли-с…
– Так неужели, неужели ты все это тогда же так на месте и обдумал? – воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге.
– Помилосердуйте, да можно ли это все выдумать в таких попыхах-с? Заранее все обдумано было.
– Ну… ну, тебе, значит, сам черт помогал! – воскликнул опять Иван Федорович. – Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал…
Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил:
– Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, – поднял Иван руку кверху, – может быть, и я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб… умер отец, но, клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Но все равно, я покажу на себя сам, завтра же, на суде, я решил! Я все скажу, все. Но мы явимся вместе с тобою! И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал – принимаю и не боюсь тебя; сам все подтвержу! Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вместе пойдем! Так и будет!
Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.
– Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с, – произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя.
– Вместе пойдем! – повторил Иван, – а не пойдешь – все равно я один сознаюсь.
Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.
– Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, – решил он наконец безапелляционно.
– Не понимаешь ты меня! – укоризненно воскликнул Иван.
– Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), али уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто ж вам поверит, ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?
– Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить.
Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону.
– Эти деньги с собою возьмите-с и унесите, – вздохнул Смердяков.
– Конечно, унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? – с большим удивлением посмотрел на него Иван.
– Не надо мне их вовсе-с, – дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. – Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще все потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.
– Своим умом дошел? – криво усмехнулся Иван.
– Вашим руководством-с.
– А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?
– Нет-с, не уверовал-с, – прошептал Смердяков.
– Так зачем отдаешь?
– Полноте… нечего-с! – махнул опять Смердяков рукой. – Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти… Только ничего того не будет! Не пойдете показывать! – твердо и убежденно решил опять Смердяков.
– Увидишь! – проговорил Иван.
– Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.
– Ты не глуп, – проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, – я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! – заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.
– От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги‑то‑с.
Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.
– Завтра их на суде покажу, – сказал он.
– Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с.
Иван встал с места.
– Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!
– А что ж, убейте-с. Убейте теперь, – вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. – Не посмеете и этого-с, – прибавил он, горько усмехнувшись, – ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!
– До завтра! – крикнул Иван и двинулся идти.
– Постойте… покажите мне их еще раз.
Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять.
– Ну, ступайте, – проговорил он, махнув рукой. – Иван Федорович! – крикнул он вдруг ему вслед опять.
– Чего тебе? – обернулся Иван уже на ходу.
– Прощайте-с!
– До завтра! – крикнул опять Иван и вышел из избы.
Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое», – подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим всё последнее время! Решение было взято, «и уже не изменится», – со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, все так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни и откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то три рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части, с тем чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором, причем он опять выдал и тут щедрою рукой «на расходы». Скажу только, что дело взяло почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали. «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, – подумал он вдруг с наслаждением, – то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет… Однако как я в силах наблюдать за собой, – подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением, – а они-то решили там, что я с ума схожу!» Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и все объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому: «Завтра все вместе!» – прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему; старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило.
IX
Черт. Кошмар Ивана Федоровича
Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича читателю. Забегая вперед, скажу лишь одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать предположение, что действительно, может быть, ужасным напряжением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оправдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройства в мозгу, и нисколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением, однако, сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, – решил доктор, – хотя надо бы их и проверить… вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо». Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь – дело другое, тогда пусть лечит кто хочет», – решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine»,[34] как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженой бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа, все было так, как и у всех шиковатых джентльменов, но белье, если вглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно, видавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что все же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, – обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к Рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смирно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.
– Послушай, – начал он Ивану Федоровичу, – ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел, ничего об ней не узнав, верно забыл…
– Ах да! – вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой, – да, я забыл… Впрочем, теперь все равно, все до завтра, – пробормотал он про себя. – А ты, – раздражительно обратился он к гостю, – это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?
– А не верь, – ласково усмехнулся джентльмен. – Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты… я их очень люблю… вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать реалист, а не материалист, хе-хе!»
– Слушай, – встал вдруг из-за стола Иван Федорович. – Я теперь точно в бреду… и, уж конечно, в бреду… ври что хочешь, мне все равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно… Я хочу ходить по комнате… Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодною водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.
Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.
– Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты, – начал было гость.
– Дурак, – засмеялся Иван, – что ж я вы, что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит… и темя… только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!
– C’est charmant,[35] приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз…
– Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, – как-то яростно даже вскричал Иван. – Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться…
– Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от него узнал! Почему ты узнал, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, – мягко засмеялся джентльмен.
– Да, это была слабость природы… но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву…
– А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.
– Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! – опять засмеялся Иван.
– Бранишься, а сам смеешься – хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение…
– Молчи про решение! – свирепо вскричал Иван.
– Понимаю, понимаю, c’est noble, c’est charmant,[36] ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву… c’est chevaleresque.[37]
– Молчи, я тебе пинков надаю!
– Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!
– Браня тебя, себя браню! – опять засмеялся Иван, – ты – я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю… и ничего не в силах сказать мне нового!
– Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, – с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.
– Только всё скверные мои мысли берешь, а главное – глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! – проскрежетал Иван.
– Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, – в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. – Я беден, но… не скажу, что очень честен, но… обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно – о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен – не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это – воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал – войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил – если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, – помолчал немного джентльмен. – Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору… ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?
– Дурак! – отрезал Иван.
– Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли…
– Дурак, – повторил опять Иван.
– Ты все свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.
– У черта ревматизм?
– Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.[38]
– Как, как? Сатана sum et nihil humanum… это неглупо для черта!
– Рад, что наконец угодил.
– А ведь это ты взял не у меня, – остановился вдруг Иван как бы пораженный, – это мне никогда в голову не приходило, это странно…