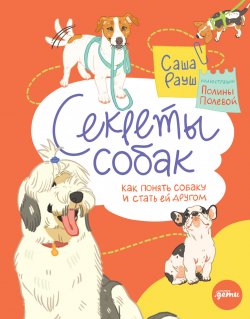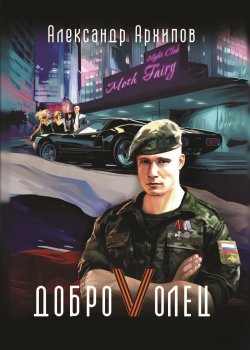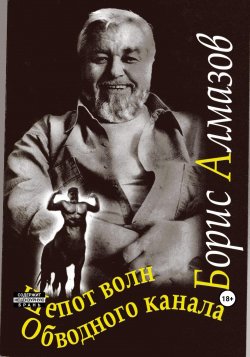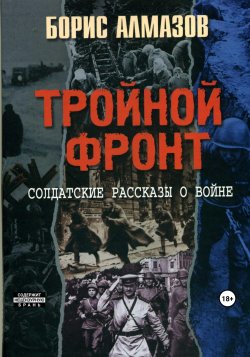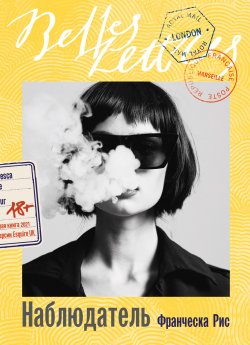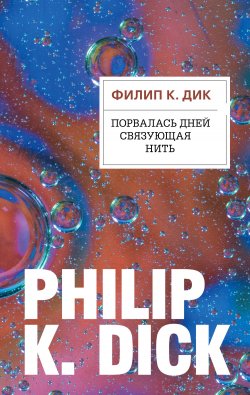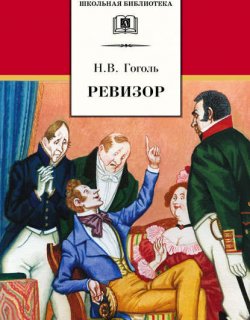Жми, тут можно >>> Аудиокниги слушать онлайнбесплатно
Ревизор - Гоголь Николай Васильевич

-
Тип:Электронные книги
- Жанр:Скачать книги / Читать книги онлайн / Классика книги / Популярные книги / Повесть книги
Скачать книгу Ревизор - Гоголь Николай Васильевич бесплатно
Комедия Грибоедова взяла другое время общества – выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, – словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещеньем, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut, не осталось ровно ничего, которые своим пребываньем в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим – тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще – тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью – тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуваженье к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в уменье различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаньями на уваженье от нового поколенья, с требованьями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина, – словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин – тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы – дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремленье чем-то сделаться, выражает только негодованье противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.
Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношенье к герою пьесы, но в отношенье к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае – то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, – это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданья художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.
Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий – завянуть и пропасть, – он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом безочарование. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и безочарованью, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду – излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни – готовился будущий великий живописец русского быта… Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, – и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.
Но пора, однако же, сказать в заключенье, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влиянье на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества – картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием – под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влияньем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, – чего не случалось еще доселе ни с одним народом, – воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованье среди его поэта. Словом – поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличенья нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и не неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том идеале, в каком он должен быть, ни в той действительности, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы.
Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, – если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем, – то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию[8], не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство чуткости, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье ухо, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; удача – всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш истинно русский ум. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, – одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума – он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага.
Эта молодая удаль и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, – которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого – все позабыто, и вся Россия – один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, – все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству, – как ни прекрасно это служение, – не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, – христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии – возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка – этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм – рожденье верховной трезвости ума, – который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей – дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, – не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию – нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».
XXXII
Светлое Воскресенье
В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, – он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, – если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть – и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».
Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы – в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.
Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий состраданья к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!
Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему – гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей.
Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми – неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, – в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной Любви?
Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, – гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его – и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться – и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, – дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.
И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, – и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, – то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней.
Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!
Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, – доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!»
Авторская исповедь
Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем как указаньем свыше – рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осужденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, – словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознанье искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мненье о своих достоинствах; желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смиренье и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, выступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет; ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.
Но к этому заключению, может быть более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влияньем страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе не приличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состоянья. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неуменье выражаться – принадлежности не вполне организовавшегося писателя – все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противуположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничижением. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в сужденьях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обинять никого.
Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противуположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещенья народного, – это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей Церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней просвещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу[9]. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значенье поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещенья европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствованья человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знанья можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе примененье самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.
Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположенье, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубежденье, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубежденье, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и всякий человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью – это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, – исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охужденью себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего – в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами. Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, – запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?
Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе, так же как и во всем, следует признать участие Того, Кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с Которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объясненьем хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.
Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.
Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключенье всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался серьезно, – тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.
Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой нейдет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и не мудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить так же службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем чтобы вдали и в уединенье от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, – словом, чтобы по прочтенье моего сочиненья предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, – также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест и не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.
С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял Он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, – словом, нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученье пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу; я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желанье своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем Сам Сын Божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя на то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.
Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения – и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнию, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был – жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми, – и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.
Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры – первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье. Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображенье – и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображенье мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела.
Я сделал в то же время воззванье ко всем читателям «Мертвых душ» – воззванье несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтенье «Мертвых душ» может расшевелить, особенно если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщей известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтенье «Мертвых душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время когда писаны были «Мертвые души», произошло некоторое обращенье на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображеньем людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состоянья моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частью избирали эпоху, от нас отдалившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидать всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, – как бы, отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влеченья и страсти к чужим краям. Я не имел так же того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле, тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, – ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выраженью его,
Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.
Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влеченье было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытье моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, – точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что, прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях, и, несмотря на то что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, – и точно, во все время пребыванья моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет, не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорченья и, наконец, потребность большего уединенья не заставили меня оставить Россию.
Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидать людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидать ее глубокий смысл и сильнейшее значение, – движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключенья из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассужденьем. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.
Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом – во все пребывание мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое: дух мой упадал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробужалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжении недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству не много возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека – тем более что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассужденьем и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, – словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.
Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познанье души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к Тому, Кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?
Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребленье, и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на отдельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещанья, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою, – таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества: благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем – для такого писателя, как я?
Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту строну, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.
Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требованья от него слишком велики – и справедливо: для того чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности творить. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться недаром. Нужно, чтобы в созданье его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней мере, определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что про ходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.
Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель, может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познанье земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как кремень станет во всем том, в чем поведено быть крепкой скалой человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретною живостью, которая делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, – и двери сердец растворятся сами навстречу к принятью их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильней такого писателя и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влиянье может быть скорее вредно, чем полезно. Это строенье себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явленье, законный ход его необыкновенного организма, состоянье временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильней измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышленье не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово – как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом.
Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле Того… помышляю я о своем собственном строенье, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, – что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильней, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в голове, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений, а мои убеждения… Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом – как честный человек, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны, по крайней мере, рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключенья, а сам в то же время еще… должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе названье Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.
Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства: одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье творить. Но, повторяю вновь как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.
Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, – скажу откровенно, – жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, вослед которым нам не посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне, – как только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы то ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, которые в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека, – то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий; где я могу употребить с действительной пользой мое знанье человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы, при некотором познанье души и сердца и при некотором знанье вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объясненьем прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготовлял уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить созданья поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает, даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье, проникнут точно любовью к России, – то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю, пристань и твердая земля.