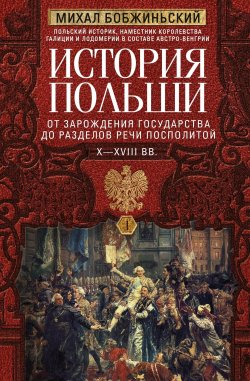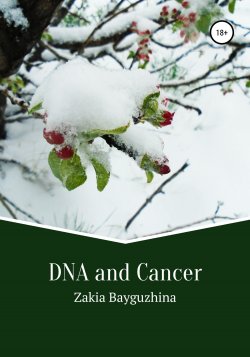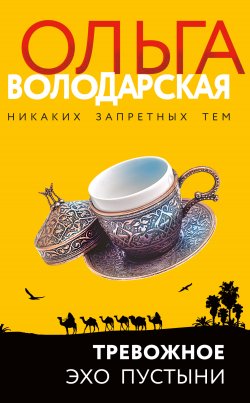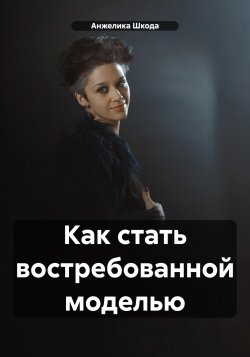Жми, тут можно >>> Аудиокниги слушать онлайнбесплатно
Пролетая над гнездом кукушки - Кизи Кен Элтон

-
Тип:Электронные книги
- Жанр:Скачать книги / Читать книги онлайн / Зарубежные книги / Классика книги / Новинки книги / Психология книги
Скачать книгу Пролетая над гнездом кукушки - Кизи Кен Элтон бесплатно
— Зачем нас позвали в такую рань?
— Мы должны установить контур пресечения любопытства одному шумному симулянту. Срочная работа, она говорит, и я даже не уверен, что у нас есть в запасе один.
— Мы могли бы поручить IBM сделать это за нас — было бы быстрее; дай я посмотрю в снабжении…
— Эй, будешь возвращаться, притащи бутылку чистой зерновой: без нее я не могу установить самой простой трахнутой детали, мне нужна живительная влага. Ну, это все-таки лучше, чем работать в гараже…
Их разговор похож на крутящуюся в быстром темпе пластинку или диалог из комедийного мультфильма. Отхожу раньше, чтобы меня не застукали за подслушиванием.
Два больших черных парня ухватили Табера у сортира и тащат его в матрасную. Он хорошенько пнул одного по ноге. Он вопит о кровавом убийстве. Вижу, каким беспомощным он выглядит, когда они скрутили его, словно стянули обручами из черного железа.
Они толкнули его лицом на матрасы. Один сидит у его головы, а другой стягивает штаны, открывая его спину, и стаскивает одежду до тех пор, пока персикового цвета задница Табера не оказывается в рамке измятой салатной зелени. Он изрыгает проклятия в матрас, а черный парень, который сидит у его головы, повторяет: «Все в порядке, мастер Табер, все в порядке…» Медсестра прошла через холл, смазывая вазелином длинную иглу, потом закрыла за собой дверь, так что на секунду все они исчезли из виду, затем вышла оттуда, вытирая иглу о лоскут от штанов Табера. Она оставила банку с вазелином в комнате. Прежде чем черные ребята закрыли за ней дверь, я увидел того, который все еще сидел у головы Табера, смазывая его клинексом. Пробыли там довольно долго, прежде чем дверь отворилась снова. Они вышли и потащили Табера через холл в лабораторию. Его зеленые штаны теперь сорваны, и он прикрыт отсыревшей рубахой…
Девять часов. Молодые практиканты в кожаных нарукавниках пятьдесят минут расспрашивают Острых, что они делали, когда были маленькими мальчиками. Большая Сестра с подозрением оглядывает хорошо подстриженные головы практикантов. Те пятьдесят минут, пока они находились в отделении, нелегкое время для нее. Пока они здесь, механизм начинает заедать, и она хмурится и делает пометки, чтобы проверить личные дела этих мальчишек, не было ли транспортных происшествий и тому подобное…
Девять пятьдесят. Практиканты ушли, и машина снова заработала гладко. Сестра осматривает дневную комнату из стеклянной будки; сцена перед ней снова обрела стальную ясность и упорядоченное движение смешного мультфильма.
Табера вывозят из лаборатории на каталке.
— Нам пришлось сделать ему еще один укол, когда он начал приходить в себя во время пункции, — сообщают ей техники. — Что вы скажете, если мы отвезем его прямиком в первый корпус и обработаем электрошоком, раз уж мы за это взялись, — а то жаль лишней дозы секонала.
— Думаю, это превосходное предложение. А потом мы отправим его на энцефалографию и проверим его голову: возможно, над его мозгом следует поработать.
Техники рысцой убегают, толкая перед собой каталку с пациентом.
Десять часов. Приходит почта. Иногда ты получаешь надорванный конверт.
Десять тридцать. Приходит этот тип, Связи с общественностью, за ним следует целый женский клуб. Он хлопает в жирные ладони в дверях дневной комнаты.
— О, привет, ребята. Держитесь молодцом, держитесь молодцом… Посмотрите вокруг, девочки; разве тут не чисто, не светло? Это — мисс Рэтчед. Я выбрал это отделение, потому что это — ееотделение. Она, девочки, здесь словно мать. Я, конечно, не имею в виду возраст, но вы, девочки, понимаете…
Воротник рубашки у Связи с общественностью такой тугой, что его лицо раздувается, когда он смеется, а смеется он большую часть времени, не знаю над чем, смеется высоким и быстрым смехом, словно бы и желал остановиться, но не может. Лицо красное и надутое, словно шар, на котором нарисованы глаза, нос, рот. На лице у него нет волос, да и на голове их столько, что и говорить не о чем; похоже, что он время от времени некоторые волоски приклеивает, но они продолжают выпадать и падать на обшлага, в карман рубахи и на воротник. Может быть, поэтому он и носит такой тугой воротник, чтобы отдельные волоски за него не попадали.
Он водит экскурсантов — серьезных женщин в жакетах-блейзерах — и рассказывает, как многое изменилось за эти годы. Он показывает телевизор, большие кожаные стулья, фонтанчики для питья; а потом они отправляются пить кофе на сестринский пост. Иногда он остается один и просто стоит посреди дневной комнаты и хлопает в ладоши (вы можете услышать,что они влажные), хлопает два или три раза, пока они не склеиваются, а потом складывает их, словно в молитве, под подбородком и начинает крутиться. Крутится посредине комнаты, глядя диким и яростным взглядом на телевизор, на новые картины на стенах, на питьевой фонтанчик. И смеется.
Чего такого веселого он видит, никому из нас никогда не дано узнать, и единственная вещь, которая мне кажется смешной, — это он сам, крутящийся на месте, словно резиновая игрушка, — если вы толкнете его, он сдуется и тут же надуется снова, и выпрямится во весь рост, чтобы завертеться опять. Он никогда, никогда не смотрит в лица мужчин…
Десять сорок, сорок пять, пятьдесят. Пациенты снуют туда-сюда в соответствии с назначениями на электротерапию, трудотерапию или физиотерапию или в тихие маленькие комнатки где-то там, где стены никогда не бывают одинакового размера и полы неровные. Звуки машин вокруг достигли ровной экономичной скорости.
Отделение жужжит — звук примерно такой, какой я слышал однажды, когда футбольная команда играла в колледже в Калифорнии. После одного хорошего сезона болельщики в нашем городке так воодушевились, что оплатили нам полет в Калифорнию, чтобы мы сыграли там на чемпионате команд колледжей. Когда мы прилетели в город, нам пришлось посетить некоторые из местных заводов. Наш тренер всегда говорил, что спорт помогает учебе, а путешествия расширяют кругозор, и в каждую поездку он перед игрой таскал нашу команду по маслобойням, свекольным фермам и консервным заводам. В Калифорнии это была хлопковая фабрика. Когда мы приперлись туда, большинство ребят быстренько посмотрели и отправились обратно в автобус отдохнуть перед игрой, а я остался в уголке, стараясь не попасть под ноги негритянским девчонкам, которые бегали туда-сюда в проходах между машинами. Фабрика нагнала на меня что-то вроде сна: все вокруг жужжало, звенело и гремело, люди и машины — все слилось в один общий мотив. Именно поэтому я остался, тогда как другие ушли, и еще потому, что это напомнило мне одного мужчину из племени, который в последние дни покинул деревню, чтобы работать на дробилке гравия для плотины. Неистовый гул, лица, загипнотизированные повторением одного и того же… Я хотел выйти вместе с командой, но не смог.
Все происходило зимним утром. На мне была куртка — нам их купили, когда мы выиграли чемпионат, — красно-зеленая, с кожаными рукавами и эмблемой в форме футбольного мяча, пришитой на спине. Из-за этой куртки многие негритянские девочки на меня таращились. Я снял ее, но они все равно таращились. Тогда я был намного больше.
Одна из девчонок оставила свою машину, огляделась, чтобы убедиться, что старшего нет поблизости, а потом подошла ко мне. Поинтересовалась, собираемся ли мы играть сегодня вечером, и сказала, что у нее есть брат, который играет в защите. Мы немного поговорили о футболе и прочем таком, и я заметил, что ее лицо расплывается, словно в тумане. Это хлопковый пух летал в воздухе.
Я сказал ей о пухе. Она закатила глаза и прыснула в кулак, когда добавил, что вижу ее лицо словно туманным утром во время утиной охоты. Она в ответ: «И что бы мы с тобой делали, если бы остались одни, там, во время утиной охоты?» Я сказал, что она могла бы позаботиться о моем ружье, и все девушки вокруг захихикали. Я и сам посмеялся своей остро́те. Мы все еще болтали и смеялись, когда она вдруг схватила мои руки и сжала пальцами. Черты ее лица приобрели резкость; я видел, что она напугана, что ей страшно.
— Давай, — прошептала она мне, — забери меня, большой мальчик. Забери с этой фабрики, из этого города, из этой жизни. Увези меня куда-нибудь: хоть на утиную охоту, хоть куда. Ну же, большой мальчик, ну?
Ее темное хорошенькое личико блестело прямо передо мной. Я стоял с открытым ртом, пытаясь придумать, что ей ответить. Несколько секунд мы стояли друг против друга, сцепившись руками. Затем звук странно изменился и что-то начало отталкивать ее от меня. Какая-то невидимая сила зацепила эту цветастую красную юбку и потянула от меня. Она хваталась за мои руки, а когда оторвалась от меня, ее лицо как бы раздвоилось и стало мягким и текучим, словно тающий шоколад за этим летящим хлопковым туманом. Она рассмеялась, крутанулась, и я увидел желтые ноги, когда юбка поднялась волной. Она подмигнула мне через плечо, убегая обратно к своей машине, где кипа волокон сваливалась со стола на пол; она сгребла ее и легко побежала по проходу между машинами, чтобы бросить волокно в бункер; а потом скрылась за углом, и больше я ее не видел.
Веретена, наматывающие и крутящиеся, челноки, прыгающие вокруг, бобины, пронизывающие воздух нитями, вымытые добела стены и серо-стального цвета машины, и девушки в цветастых юбках, и все вместе, опутанное белой паутиной, оплетающей фабрику, — все это, опутавшее меня и каждого, приходило на ум всякий раз, когда что-то в отделении мне об этом напоминало.
Да. Это было то, что я знал. Отделение — всего лишь фабрика для Комбината. Оно предназначено, чтобы исправлять здесь ошибки, совершающиеся по соседству, в школах, в церквях — для этого и существует больница. Когда законченный продукт возвращается обратно в общество, все решают, что он так же хорош, как и новый, иногда даже лучше, и это наполняет радостью сердце Большой Сестры. Нечто во всех отношениях изменилось и стало другим, и теперь является функциональным, хорошо прилаженным механизмом, воплощенный кредит доверия всему окружающему и чудо, к которому так приятно было приложить руку. Смотреть, как он теперь ходит по земле с хорошо сваренной арматурной улыбкой, определенный куда-нибудь в милое местечко по соседству. Он наконец приспособился к окружающему…
«Ну что ж, я никогда не видел таких потрясающих изменений, как те, что произошли с Максвеллом Табером с тех пор, как он вернулся из этой лечебницы; немного осунулся, небольшие круги под глазами, немножко потерял в весе и знаете что? Он теперь новый человек.Господи, современная американская наука…»
И свет в его подвальном окне прошлой ночью, каждую ночь. Элементы задержки реакции, внедренные техниками, дают проворность его пальцам, когда он склоняется над своей женой, наглотавшейся снотворного, его маленькие девочки — четырех и шести лет, соседи, с которыми он играет в боулинг по понедельникам; он приспособился к ним, как и был приспособлен. Так они об этом рассказывают.
Когда он наконец покидает их через предназначенное ему количество лет, город любит его всей душой, и газета публикует фотографию, как в прошлом году в день уборки кладбища он помогал бойскаутам, и его жена получает письмо от начальника колледжа о том, каким вдохновляющим примером был Максвелл Уилсон Табер для молодежи.
И даже бальзамировщики, эта парочка скупердяев и вымогателей, заколебались: «Да уж, вы только посмотрите на него: старина Макс Табер, он был из хорошего теста. Что вы скажете, если мы обиходим его по высшей и не возьмем с его жены лишка».
Все это приносит радость сердцу Большой Сестры, говорит о ее мастерстве и успехах, о всей индустрии в общем и целом. Все счастливы видеть продукт своего труда.
Но с новеньким совсем другая история. Даже самого лучшего поведения новенький нуждается в некоторой доработке, дабы привыкнуть к распорядку; вы также никогда не можете сказать, когда этот конкретныйприбудет, и не будет ли он достаточно глуп, чтобы дурить всех направо и налево, устраивая настоящую неразбериху и представляя собой угрозу всей гладкости заведенного порядка вещей. А как я уже объяснял, Большая Сестра по-настоящему готова выйти из себя, если что-то нарушает заведенный порядок.
* * *
Перед полуднем они снова включили туманную машину, но включили ее не на полную мощность — туман не настолько плотный, и я могу кое-что разглядеть, если напрягусь. Когда-нибудь я перестану напрягаться и позволю себе потеряться в тумане, как живут некоторые Хроники, но в тот раз я заинтересовался новым парнем — я хотел посмотреть, как он все воспримет, когда начнется собрание группы.
В десять минут первого туман совершенно рассеялся, и черные ребята говорят Острым, чтобы они расчистили место для собрания. Все столы вынесены из дневной комнаты в ванную через коридор напротив — и, как говорит Макмерфи, можно начинать танцы.
Большая Сестра следит за всем через окно. Она уже три часа не отходит от него, даже на обед не пошла. Пол дневной комнаты освободили от столов, и ровно в час доктор выходит из кабинета, кивает Большой Сестре, проходя мимо нее, и садится в кресло как раз слева от двери. Пациенты тоже садятся; затем подтягиваются маленькие сестры и практиканты. Когда все уселись, Большая Сестра поднимается со своего места и отходит в глубь сестринского поста к стальной панели с циферблатами и кнопками, включает что-то вроде автопилота, чтобы управлять всем, пока ее не будет, и входит в дневную комнату, неся с собой амбарную книгу и полную корзину записок. Ее форма, даже после того как она провела здесь полдня, накрахмалена так туго, что даже нигде не помялась; потрескивает на швах, словно замерзшая холстина, когда ее складываешь.
Садится справа от двери.
Только она уселась, Старина Пете Банчини поднимается и начинает трясти головой и причитать:
— Я устал, Господи. О, я ужасноустал… — Он так всегда делает, когда в отделении появляется новый человек, который, может, будет его слушать.
Большая Сестра даже не смотрит на Пете. Она просматривает бумаги в корзине.
— Пусть кто-нибудь сядет рядом с мистером Банчини, — говорит она. — Успокойте его, чтобы мы могли начать собрание.
Билли Биббит идет к нему. Пете повернулся лицом к Макмерфи и качает головой из стороны в сторону, словно сигнальный семафор на железнодорожном перекрестке. Он проработал тридцать лет на железной дороге; теперь страдает от истощения, но по старой памяти все еще функционирует.
— Я у-у-стал, — говорит он, поворачивая лицо к Макмерфи.
— Расслабься, Пете. — Билли кладет веснушчатую руку на колено Пете.
— …Ужасно устал…
— Я знаю, Пете, — похлопывает по костлявому колену, и Пете отворачивает лицо, понимая, что никто сегодня не отзовется на его жалобу.
Сестра снимает наручные часы, сверяет с настенными, подводит свои и укладывает их в корзину. Потом берет из корзины папку.
— Итак, мы можем начать? — обводит взглядом собравшихся: не намерен ли кто-нибудь еще прервать ее; улыбается, и голова поворачивается над ее воротником.
Ребята не хотят встречаться с ней взглядом; они рассматривают свои заусенцы. Кроме Макмерфи. Он выбрал себе стул в углу и уселся так, словно заявил на него особые права, и следит за каждым ее движением. Кепка так туго натянута на его рыжеволосую голову, словно он собирается погонять на мотоцикле. Колода в его ладони открылась на одной карте, затем с громким хлопком сложилась обратно. Бегающие глаза Большой Сестры задержались на нем на секунду. Она следила за тем, как он все утро играл в покер, и, хотя не видела, чтобы из рук в руки передавались какие-нибудь деньги, он явно был не того типа, чтобы играть по правилам отделения — на спички. Колода раскрылась и с громким звуком закрылась снова, а потом исчезла где-то в его огромных ладонях.
Большая Сестра снова смотрит на часы и вытаскивает из папки, которую держит, лист бумаги. Просмотрела его и вернула в папку. Она опускает папку и поднимает амбарную книгу. Эллис закашлял на своем месте у стены; она ждет, пока он перестанет.
— Итак, в конце нашего собрания в пятницу… мы обсуждали проблему мистера Хардинга… касающуюся его молодой жены. Он утверждал, что его заставляет нервничать то обстоятельство, что на его жену постоянно заглядываются мужчины на улице, так как она наделена исключительно развитой грудью. — Она принимается искать нужное место в своей амбарной книге; виднеются маленькие закладки, отмечающие нужные страницы. — Согласно замечаниям, которые были высказаны различными пациентами и зафиксированы в журнале, мистер Хардинг заявил, что она «сама дает всяким ублюдкам повод глазеть на себя». Он также сообщил, что, возможно, самдает ей основания искать сексуального внимания на стороне. Мы все слышали, как он говорил: «Моя дорогая, прелестная, но глупая женушка думает, что любое слово или жест, которые не являются откровенным грубым похлопыванием, смачным поцелуем, относятся к ничего не значащим заигрываниям». — Она некоторое время продолжает тихим голосом зачитывать из книги, а потом закрывает ее. — Он также утверждал, что развитая грудь его жены временами заставляет его испытывать комплекс неполноценности. Желает ли кто-нибудь коснуться этой темы и развить ее дальше?
Хардинг закрывает глаза, остальные молчат. Макмерфи оглядел остальных ребят, подождал, не собирается ли кто-либо ответить сестре, затем поднял руку, щелкнув пальцами, словно мальчишка в классе, и Большая Сестра кивает ему.
— Мистер… э… Макмьюрри?
— Коснуться чего?
— Что? Коснуться…
— Я так понял, вы сказали «желает ли кто-нибудь коснуться…».
— Коснуться темы, мистер Макмьюрри, волнующей мистера Хардинга и его жену.
— О! Я подумал, что вы имели в виду коснуться ее самой — в этом плане.
— Итак, что вы можете… — Тут она останавливается. Она почти смущена — но только на одну секунду.
Некоторые из Острых прячут ухмылки, а Макмерфи потянулся, зевнул и подмигнул Хардингу. Затем Большая Сестра, как всегда спокойная, кладет амбарную книгу обратно в корзину, вынимает оттуда сложенный лист, разворачивает его и начинает читать.
— Макмьюрри Рэндл Патрик. Переведен по состоянию здоровья с пендлетонской исправительной фермы для диагностики и возможного лечения. Возраст — тридцать пять лет. Женат не был. Отличился во время службы в Корее, возглавив побег военнопленных из коммунистического концентрационного лагеря. Впоследствии демобилизован с позором за несоблюдение субординации. Далее следует целая серия уличных драк и скандалов в барах, арестов за злоупотребление спиртным, оскорбление действием, нарушение порядка, азартные игры и один арест — за изнасилование.
— Изнасилование? — оживился доктор.
— Формулировка, с девушкой, которая…
— Ха! Этого вы мне не пришьете, — говорит Макмерфи доктору. — Девушка не дала показаний.
— С ребенком пятнадцати лет.
— Она сказала, что ей семнадцать,док, и она сама ужаснохотела.
— Судебный врач осмотрел ребенка и зафиксировал половой акт, неоднократныйполовой акт, в записях сказано…
— Она сама хотела, правду сказать, иначе я держал бы штаны на запоре.
— Дитя отказалось свидетельствовать, несмотря на заключение врача. Похоже, имело место запугивание. Обвиняемый покинул город вскоре после судебного разбирательства.
— Да ладно, парень. Мне пришлосьуехать. Док, позвольте, я расскажу вам. — Он наклонился вперед, опершись локтем о колено, и понизил голос, обращаясь к доктору, сидевшему напротив, на другой стороне комнаты. — Эта маленькая шлюшка к тому времени, как ей бы исполнилось шестнадцать, превратила бы меня в старое мочало. Она затащила меня туда, заморочила голову и повалила на пол.
Большая Сестра складывает лист и передает его доктору.
— Наш новенький, доктор Спайвей. — Словно внутри сложенной желтой бумаги сидит человек, и она передала листок, чтобы его хорошенько рассмотрели. — Я полагала, что смогу позже кратко рассказать вам его историю болезни, но поскольку он, по-видимому, настаивает на участии в работе группы, мы можем определиться с ним сейчас.
Доктор выудил очки из кармана халата, натянув веревочку, пристроил их на носу. Они немножко сбиваются вправо, но он тут же наклоняет голову влево и выравнивает их. Просматривая бумагу, слегка улыбается оттого, что этот новый парень так бесстыдно рассуждает, и, в отличие от всех нас, он вовсе не заботится о том, чтобы не лезть на рожон и не смеяться. Добравшись до конца листа, доктор складывает его и отправляет очки обратно в карман. Он смотрит на Макмерфи, который все еще сидит, подавшись вперед.
— У вас… похоже… нет психиатрической истории болезни, мистер Макмьюрри?
— Макмерфи,док.
— О? Но я думал… Сестра сказала… — Он снова открывает лист, выуживает все те же очки, с минуту просматривает записи, потом снова складывает лист и сует очки обратно в карман. — Да, Макмерфи. Это верно. Примите мои извинения.
— Все в порядке, док. Эта леди, которая начала тут говорить, сделала ошибку. Я знаю, некоторые люди расположены к этому. У меня был дядя, которого звали Хэллэхэн, и он однажды пошел с женщиной, которая притворялась, что не помнит, как правильно произносится его имя, и называла его Хулиганом, просто чтобы позлить. Прошел целый месяц, прежде чем он ее остановил. Но зато наилучшим образом, да уж.
— О? И как же он остановил ее? — спрашивает доктор.
Макмерфи ухмыльнулся и потер нос большими пальцами.
— Как же, ждите. Я не могу рассказать вам этого. Я держу метод дядюшки Хэллэхэна в страшном секрете, понимаете, на случай если он мне самому когда-нибудь понадобится. — Он произносит это, глядя прямо на сестру. Она улыбается ему в ответ, и он переводит взгляд на доктора. — Итак, что вы там хотели спросить насчет моих бумаг, док?
— Да. Меня удивляет, что у вас нет первичной психиатрической истории болезни. Может быть, вы подвергались анализу или провели какое-то время в другом заведении?
— Ну, контора штата и арестантские камеры…
— В психиатрическомзаведении?
— А… Нет, если речь идет об этом. Это — моя первая поездка. Но я — сумасшедший,док. Клянусь, что это так. Послушайте, я сейчас вам это докажу. Я думаю, что другой доктор на исправительной ферме…
Он поднимается, вытаскивает из кармана куртки сложенный лист бумаги, проходит через комнату, наклоняется к плечу доктора и начинает тыкать пальцем в лист, разложенный на его коленях.
— Понимаете, он написал кое-что, вот тут и вот тут…
— Да? Это я упустил. Одну минуточку. — Доктор снова выуживает очки, напяливает их и смотрит туда, куда показывает Макмерфи.
— Вот здесь, док. Сестра оставила это без внимания, когда читала мое дело. Видите, тут сказано: «Макмерфи, со всей очевидностью, страдает от повторяющихся… —я только хочу убедиться, что вы меня правильно понимаете, док, — повторяющихсяприступов возбуждения, что дает нам возможность предположить психопатию». Он сказал мне — прошу простить, леди, — что я чересчур ревностно отношусь к своим сексуальным обязанностям. Доктор, это и правда так серьезно?
Он спрашивает об этом словно маленький мальчик, который встревожен и озабочен, что доктор не может удержаться и прячет в воротник еще один смешок. Его очки сваливаются прямо в карман. Теперь уже улыбаются все Острые и даже некоторые из Хроников.
— Я имею в виду перебор, излишнее рвение, док. Вы когда-нибудь страдали от этого?
Доктор вытер глаза.
— Нет, Макмерфи, признаю, что не страдал. Однако меня интересует, почему доктор на исправительной ферме сделал такую приписку: «Не следует выпускать из виду, что этот человек может симулировать психоз для того, чтобы избежать исправительных работ на ферме». — Он посмотрел на Макмерфи. — Что вы на это скажете, Макмерфи?
— Доктор, — Макмерфи выпрямляется во весь рост, морщит лоб и разводит руками, как бы показывая, что он честен и открыт для всего мира, — разве я похож на нормального человека?
Доктор так старался удержаться, чтобы не захихикать снова, что не сумел ответить. Макмерфи поворачивается на сто восемьдесят градусов и задает тот же вопрос Большой Сестре:
— Похожли я?
Вместо того чтобы ответить, она встает и берет из рук доктора измятую бумагу и укладывает ее обратно в корзину. Садится на место.
— Может быть, доктор, вам следует поставить мистера Макмьюрри в известность о порядке проведения собрания?
— Мадам, — произносит Макмерфи, — разве я не рассказывал вам о моем дядюшке Хэллэхэне и о женщине, которая обычно перевирала его имя?
Довольно долго смотрит на него безо всякой улыбки. Она способна изображать улыбку, придавать лицу любое выражение, которое она намеревается на ком-нибудь использовать, но все это только видимость и не имеет никакого значения — просто рассчитанное, механическое действие, служащее ее целям. Наконец она говорит:
— Прошу прощения, Мак-мер-фи, — и поворачивается к доктору: — А теперь, доктор, если вы соизволите объяснить…
Доктор складывает руки на животе и откидывается на спинку стула.
— Да. Полагаю, я должен разъяснить основную теориюнашего терапевтического общества, раз уж мы об этом заговорили. Хотя я обычно откладываю это на попозже. Да. Хорошая идея, мисс Рэтчед, превосходная идея.
— Разумеется, и теорию также, но я имела в виду правило, которое гласит, что пациенты во время собрания должны оставаться на своих местах.
— Да. Конечно. А потом я объясню теорию. Мистер Макмерфи, первое, о чем вы должны знать, что пациенты во время собрания остаются на своих местах. Понимаете ли, для нас это — единственный способ поддерживать порядок.
— Точно, доктор. Я встал только для того, чтобы показать вам ту штуку в моей истории болезни.
Он возвращается на место, еще раз потягивается и зевает, усаживается поудобнее на стуле, словно собака, решившая отдохнуть. Наконец устроился и внимательно смотрит на доктора.
— Что же до теории… — Доктор сделал глубокий вдох.
— Трахнуть эту жену, — говорит Ракли.
Макмерфи прикрывает рот тыльной стороной ладони и свистящим шепотом спрашивает Ракли через всю комнату:
— Чью жену?
И тут их перебивает Мартини, который глядит прямо перед собой широко распахнутыми глазами.
— Да, — вмешивается он, — чью жену? Ох. Ее? Да. Я вижу ее. Да уж.
— Я бы многое отдал, чтобы иметь такие глаза, как у этого парня, — сказал Макмерфи о Мартини — и замолчал. Он молчит до конца собрания. Просто сидит и смотрит, не пропуская ничего. Доктор говорит о своей теории, пока Большая Сестра не решает, что он потратил уже достаточно времени, и просит его умолкнуть, чтобы они могли перейти к Хардингу, и оставшееся время они говорят о нем.
Пару раз Макмерфи приподнимается со стула, словно что-то хочет сказать, но потом решает, что лучше будет промолчать, и снова откидывается назад. На его лице появляется озадаченное выражение. Он обнаруживает, что здесь происходит что-то странное. Он не может точно сказать что. Например, то, что никто не смеется. Он был уверен, что раздастся смех, когда он спросит Ракли: «Чья жена?» — но никто даже не улыбнулся. Воздух спрессовывается между стен, он слишком плотный, чтобы смеяться. Есть что-то странное в том, что здесь мужчины не могут расслабиться и посмеяться, в том, как они все подчиняются улыбающейся «мамочке» с напудренным лицом, накрашенной слишком красной губной помадой и со слишком большой грудью. Нужно немного выждать, думает он, чтобы понять, что же происходит в этом месте, прежде чем сам вступит в игру. Это доброе правило для умного шулера: вначале присмотрись к игре, прежде чем в нее вступить.
Я слышал теорию терапевтического общества такое количество раз, что могу повторить ее с начала до конца и с конца до начала — что человек должен научиться вести себя в группе, прежде чем сможет функционировать в нормальном обществе; что группа может помочь ему увидеть, где у него что не так; что общество решает, кто нормальный, а кто нет, так что вам придется ему соответствовать. И все такое. Каждый раз, как у нас в отделении появляется новый пациент, доктор углубляется в теорию, он уходит в нее по уши; и это — единственное время, когда он бывает главным и сам ведет собрание. Он рассказывает, что целью терапевтического общества является демократическое отделение, которое целиком и полностью управляется пациентами, где все решается голосованием, и оно работает над тем, чтобы вернуть нас обратно на улицы достойными гражданами. Всякое недовольство, всякая жалоба, все, что вам хотелось бы изменить, говорит он, должно быть вынесено на обсуждение группы, а не загонять внутрь себя. Вы должны чувствовать себя комфортно в своем окружении, свободно обсуждать эмоциональные проблемы с больными и персоналом. Говорите, повторяет он, обсуждайте, исповедуйтесь. И если вы услышите, что кто-то из ваших друзей в течение дня обронит что-то, запишите это в амбарную книгу, чтобы знал персонал. Это не донос, это поможет вашему товарищу. Вынесите ваши старые грехи на суд товарищей, чтобы их можно было отмыть на виду у всех. И участвуйте в групповых обсуждениях. Помогайте себе и своим друзьям проникать в тайны подсознания. У друзей не должно быть друг от друга секретов.
Наше намерение — так он обычно заканчивает свою речь — сделать все это максимально похожим на вашу собственную демократию, свободное добрососедство, если возможно — маленький внутренний мир, который является прототипом большого внешнего мира, в котором вы в один прекрасный день займете свое место.
Может быть, он и дальше рассуждал по поводу этого пункта, но Большая Сестра на этом месте обычно заставляет его умолкнуть, и во временно наступившей тишине Старина Пете встает, мотает сплющенной головой, похожей на медный горшок, и говорит всем и каждому, как он устал, и сестра велит, чтобы кто-нибудь успокоил его, чтобы собрание могло продолжаться. Пете затыкается, и собрание продолжается.
Однажды — я могу припомнить только один раз, — четыре или пять лет назад, произошел небольшой сбой. Доктор закончил свои разглагольствования, и тут же вступила сестра:
— Итак. Кто начнет? Вспомним наши старые секреты.
Острые были ошарашены этим предложением и в течение двадцати минут сидели молча, ожидая, когда кто-нибудь начнет рассказывать о себе. Ее взгляд переходил с одного на другого — так же плавно, как переворачивают бекон. Дневная комната на долгих двадцать минут была погружена в тишину, и все пациенты застыли там, где сидели. Когда прошло двадцать минут, она посмотрела на часы и сказала:
— Должна ли я понимать это так, что среди вас нет мужчин, которые однажды совершили некие действия, в которых никогда не могли признаться? — Она сунула руки в корзину, чтобы достать амбарную книгу. — Посмотрим, что у нас записано?
Это привело в ход нечто, какое-то акустическое приспособление в стенах, которое специально включалось, когда именно эти слова слетают с ее губ. Острые застыли. Рты их одновременно открылись. Ее безразличные глаза остановились на первом человеке у стены.
И он тихо заговорил:
— Я ограбил кассира на станции обслуживания.
Она перевела взгляд на следующего человека.
— Я хотел затащить в постель сестру.
Ее взгляд быстро метнулся к следующему; и каждый подпрыгивал, словно оказывался мишенью в стрелковом зале.
— Я хотел затащить в постель брата.
— Я убил кошку, когда мне было шесть лет. О, Боже, прости меня, я забил ее камнями до смерти и сказал, что это сделал мой сосед.
— Я солгал о том, что пытался. Я отымел свою сестру!
— Я тоже! Я тоже!
— И я! И я!
Об этом она и мечтать не могла. Они шумели, пытаясь перещеголять друг друга, они шли все дальше и дальше, не останавливаясь, рассказывая такие вещи, после которых не могли бы поднять друг на друга глаз. Сестра кивала при каждом признании и говорила: «Да, да, да».
А потом Старина Пете поднялся на ноги.
— Я устал! — прокричал он громким сердитым голосом, в котором звучала медь и которого никто от него раньше не слышал.
И все заткнулись. Им вдруг стало стыдно. Это было так. Словно он неожиданно сказал что-то важное и правдивое, и это заставило их устыдиться своих детских выкриков. Большая Сестра была в ярости. Она повернулась на шарнирах и уставилась на него, улыбка каплями стекала на ее подбородок: еще секунду назад все шло так хорошо.
— Кто-нибудь присмотрите за бедным мистером Банчини, — сказала она.
Двое или трое поднялись. Они попытались успокоить его, взяв за плечи. Но Пете было не остановить.
— Устал! Устал! — продолжал он.
В конце концов сестра позвала одного из черных ребят, чтобы он увел его из дневной комнаты силой. Она забыла, что над такими людьми, как Пете, черные ребята не имеют власти.
Пете был Хроником всю жизнь. Даже несмотря на то, что в больницу он попал после пятидесяти лет, он всегда был Хроником. У него на голове были две большие вмятины, по одной с каждой стороны, там, где доктор, который принимал роды, наложил щипцы, пытаясь его вытащить. Пете впервые открыл глаза и увидел родильную комнату и всю ту машинерию, которая его ждала, и каким-то образом осознал, для чего он появился на свет, и принялся хватать все, что попадалось под руку, чтобы попытаться не родиться. Но доктор добрался до него и ухватил за голову тупыми щипцами для льда и вытащил, и заставил сдаться, и заявил, что все в порядке. Но голова Пете была еще слишком мягкой, словно глина, и, когда его вытаскивали, остались две вмятины от щипцов. Это сделало его простым — проще говоря, придурком, — таким простым, что от него требовались большие усилия, концентрация внимания и сила воли, чтобы выполнить задание, с которым легко мог справиться шестилетний ребенок.
Но не все так плохо — он был так прост, что не попал в лапы Комбината. Они были неспособны отлить его по шаблону. И тогда они позволили ему получить простую работу на железной дороге. Все, что ему нужно было делать, — это сидеть в маленьком фанерном домике, махать фонарем поездам: красным — в одну сторону, зеленым — в другую и желтым, если где-то впереди был поезд. И он это делал изо всех сил, надрывая кишки. И они не могли выбить это у него из головы, и он был один, сам по себе, у светофора. И ему никогда не вживляли никаких контролеров.
Именно поэтому черный парень никогда не пытался ему перечить. Но черный парень вовремя не подумал об этом, как и Большая Сестра, когда приказала увести Пете из дневной комнаты. Черный парень подошел и дернул Пете за руку — как вы бы дернули поводья лошади, запряженной в плуг.
— Все в порядке, Пете. Пойдем в спальню. Ты всем мешаешь.
Пете приподнял плечи.
— Я устал, — пожаловался он.
— Давай же, старик, ты устраиваешь шум. Пойдем со мной в кроватку, будь хорошим мальчиком.
— Устал…
— Я сказал, иди в спальню, старый хрыч!
Черный парень снова дернул его за руку, и Пете перестал мотать головой. Он стоял прямой и непоколебимый. Обычно глаза Пете были наполовину закрыты и затуманены, словно в них было налито молоко, но внезапно они стали ясными, словно голубой неон. И рука, за которую держался черный парень, начала увеличиваться. Персонал и большая часть пациентов переговаривались между собой, не обращая никакого внимания на старика и его старую песню о том, что он устал, полагая, что его сейчас утихомирят и собрание будет продолжаться. Они не видели, что он сжимает и разжимает кулак и он становится все больше. И только один человек это видел. Я видел, как он надувался и становился гладким и твердым. Большой ржавый железный мяч на конце цепи. Я смотрел на него и ждал, когда черный парень еще раз дернет Пете за рукав, чтобы увести его в спальню.
— Старина, я сказал, что ты должен…
Он увидел руку. Он попытался отодвинуться со словами: «Ты хороший мальчик, Пете», но немного опоздал. Пете отправил этот большой железный шар в путь, и он взметнулся прямо от его коленей. Черный парень распластался по стене и застыл, а потом стек на пол, словно стена в том месте была намазана жиром. Я слышал, как что-то хрустнуло внутри по всей стене, и штукатурка треснула в тех местах, где он в нее влип.
Остальные двое — последний парень и еще тот большой — стояли, словно окаменевшие. Сестра щелкнула пальцами, и они пришли в движение. Немедленно задвигались, скользя по полу. Маленький рядом с большим — как уменьшенное отражение в зеркале. Они уже были почти рядом с Пете, когда до них неожиданно дошло: Пете не прикреплен к проводкам, он не под контролем, как мы все, остальные, он не станет слушаться просто потому, что они отдали ему приказ, он не отдаст свою руку, чтобы они за нее тянули. Если им придется взять его, то как дикого медведя или быка, а поскольку один из них уже был вне игры и лежал у плинтуса, остальные двое призадумались.
Эта мысль пришла к ним одновременно, и они застыли, большой парень и его крошечный двойник, почти в одной и той же позиции, левая нога впереди, правая рука вытянута на полпути между Пете и Большой Сестрой. Этот железный мяч, который крутился у них перед носом, и эта белоснежная ярость позади них, они тряслись и дымились, и даже я мог слышать, как работают их механизмы. Я мог видеть, что они подергиваются в замешательстве, словно машины, которым на полной скорости дали по тормозам.
Пете стоял там, посредине комнаты, крутя своим шаром назад и вперед, наклоняясь под его тяжестью. Теперь уже все смотрели на него. Он перевел взгляд с большого черного парня на маленького и, когда увидел, что они не решаются подойти ближе, повернулся к пациентам.
— Вот видите — это большая чепуха, — сказал он им, — большая чепуха.
Большая Сестра соскользнула со стула и двинулась к плетеной корзине, прислоненной к двери.
— Да-да, мистер Банчини, — тихо пропела она, — а теперь, если вы успокоитесь…
— Все это так и есть, ничего, просто большая чепуха. — Его голос потерял медную силу и стал напряженным и торопливым, словно у него оставалось совсем мало времени, чтобы закончить то, что он хочет сказать. — Вы видите, я ничего не могу поделать. Я не могу — разве не видите. Я родился мертвым. Не вы. Вы не родились мертвыми. А-а-а, это было тяжело…
Он начал плакать. Теперь он уже больше не мог правильно выговаривать слова; он открывал и закрывал рот, чтобы что-то сказать, но не мог больше складывать слова в предложения. Он потряс головой, чтобы она прояснилась, и, моргая, смотрел на Острых.
— А-а-а. Я… говорю… а-а… я говорю вам. — Он снова ссутулился, и его железный шар сдулся до размеров обыкновенной руки. Он держал ее перед собой, ладонь — чашечкой, словно предлагал что-то пациентам. — Не могу ничего поделать. Я родился по ошибке. Я перенес столько обид, что умер. Я родился мертвым. Я ничего не могу поделать. Я пытался. Я перестал пытаться. У вас есть шансы. Я родился мертвым. Вам это легко. Я родился мертвым, и жизнь была тяжелой. Я устал. Я пытался говорить и стоять прямо. Я мертв уже пятьдесят пять лет.
Большая Сестра подобралась к нему через комнату и воткнула шприц прямо через зеленые штаны. Отпрыгнула назад, не вынимая иглы из шприца, и он повис на его штанах, словно маленький хвост из стекла и стали. Старина Пете сгибался все больше и больше, почти падал — не столько от укола, сколько от усталости; последняя пара минут изнурила его окончательно и бесповоротно, раз и навсегда — вам стоило только посмотреть на него, чтобы сказать, что он кончился.
Так что, по-настоящему, делать укол не было нужды; его голова уже начала мотаться туда-сюда, а глаза затуманились. К тому времени, как сестра сумела подобраться к нему сзади, чтобы вытащить иглу, он уже совсем согнулся, лежал прямо на полу и рыдал. Слезы даже не смачивали лица, а разбрызгивались широко вокруг, когда он мотал головой, лились потоком, словно он сеял их, как семена. «А-а-а-а», — тихо подвывал он. Он не вздрогнул, когда она выдернула иглу.
Он, наверное, всего лишь на минуту вернулся к жизни, чтобы сказать нам что-то, что ни один из нас не позаботился услышать или попытаться понять, и это усилие выжало его досуха. Этот укол в ягодицу был так же напрасен, как если бы она колола мертвеца — не было сердца, чтобы разогнать его кровь, не было вен, чтобы перенести ее к голове, не было мозга, чтобы умертвить его своим ядом. Она с таким же успехом могла бы уколоть высохший труп.
— Я… устал…