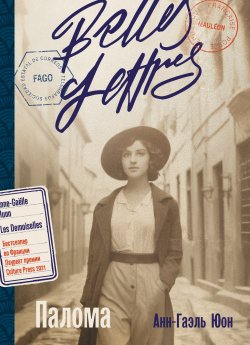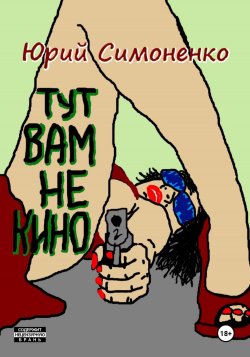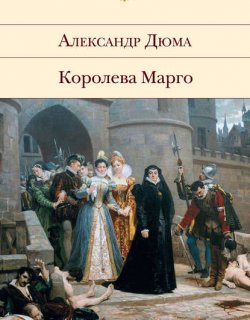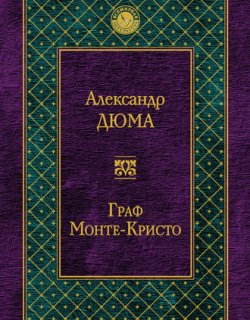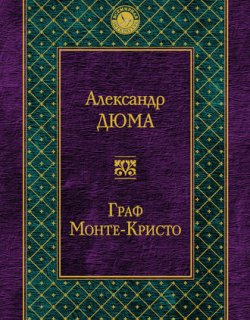Жми, тут можно >>> Аудиокниги слушать онлайнбесплатно
Граф Монте-Кристо - Александр Дюма

-
Тип:Электронные книги
- Жанр:Скачать книги / Читать книги онлайн / Детские книги / Зарубежные книги / Классика книги / Приключения книги / Рассказы книги / Романы книги
Скачать книгу Граф Монте-Кристо - Александр Дюма бесплатно
– Если вы чего-либо не делали в Париже, то это еще не причина не делать этого в чужих краях, – сказал граф. – Путешествуешь, чтобы приобрести знания; меняешь места, чтобы увидеть новое. Подумайте, как вам будет стыдно, когда у вас спросят: «Как казнят в Риме?», а вы ответите: «Не знаю». Притом же осужденный, говорят, отъявленный мерзавец, негодяй, убивший каминным таганом почтенного каноника, который воспитал его, как сына. Черт возьми, когда убиваешь духовное лицо, нужно выбирать более приличное орудие, чем таган, особенно если это духовное лицо, быть может, твой отец. Если бы вы путешествовали по Испании, вы бы пошли взглянуть на бой быков, правда? Так предположите, что мы едем смотреть бой быков; вспомните о цирке древних римлян, об охотах, где убивали триста львов и сотню людей. Вспомните о восьмидесяти тысячах зрителей, хлопавших в ладоши, о почтенных матронах, приводивших с собою своих дочерей-невест, о прелестных белокурых весталках, подававших прелестным пальчиком знак, говоривший: «Ну, не ленитесь, добивайте скорей этого человека, он и так уже почти мертв».
– Вы поедете, Альбер? – спросил Франц.
– Пожалуй; я, как и вы, колебался, но красноречие графа меня убедило.
– Так поедемте, если вам угодно, – сказал Франц, – но по дороге на Пьяцца-дель-Пополо я бы хотел побывать на Корсо; возможно это?
– Пешком – да, в экипаже – нет.
– Так я пойду пешком.
– А вам необходимо попасть на Корсо?
– Да, мне там нужно кое-что посмотреть.
– Хорошо, пойдем пешком на Корсо, а экипаж поедет по виа дель-Бабуино и будет ждать нас на Пьяцца-дель-Пополо; я и сам ничего не имею против того, чтобы пройтись по Корсо и посмотреть, исполнены ли кое-какие мои распоряжения.
– Ваше сиятельство, – доложил, открывая дверь, лакей, – какой-то человек в одежде паломника просит позволения поговорить с вами.
– Да, знаю, – сказал граф. – Господа, не угодно ли вам пройти в гостиную? Там на столе вы найдете превосходные гаванские сигары… Через минуту я вернусь к вам.
Молодые люди встали и вышли в одну из дверей, между тем как граф, еще раз извинившись перед ними, вышел в другую. Альбер, большой любитель хороших сигар, считавший, что он приносит тяжелую жертву, обходясь без сигар Кафе-де-Пари, подошел к столу и вскрикнул от радости, увидав настоящие «пурос».
– Ну, – спросил его Франц, – что вы думаете о графе Монте-Кристо?
– Что я о нем думаю? – отвечал Альбер, явно удивленный таким вопросом со стороны своего приятеля. – Я думаю, что это премилый человек, радушный хозяин, который много видел, много изучал, много думал и принадлежит, как Брут, к школе стоиков, а в довершение всего, – прибавил он, любовно выпуская изо рта дым, спирально поднимающийся к потолку, – у него превосходные сигары.
Таково было мнение Альбера о графе. А так как Альбер всегда хвалился, что, только хорошенько поразмыслив, составляет себе мнение о ком бы то ни было и о чем бы то ни было, то Франц и не пытался ему противоречить.
– Но вы обратили внимание на одно очень странное обстоятельство? – сказал он.
– Какое?
– Вы заметили, как пристально он на вас смотрел?
– На меня?
– Да, на вас.
Альбер задумался.
– Увы, – сказал он со вздохом, – в этом нет ничего удивительного. Я уже год, как уехал из Парижа, и, вероятно, одет, как чучело. Граф, должно быть, принял меня за провинциала; разуверьте его, дорогой, и при первом случае скажите ему, что это совсем не так.
Франц улыбнулся. Минуту спустя вернулся граф.
– Вот и я, господа, и весь к вашим услугам, – сказал он. – Распоряжения отданы; экипаж направляется своей дорогой на Пьяцца-дель-Пополо, а мы пойдем туда же по Корсо, если вам угодно. Возьмите немного сигар, господин де Морсер.
– Охотно, граф, благодарю вас, – отвечал Альбер, – итальянские сигары еще хуже французских. Когда вы приедете в Париж, я расквитаюсь с вами.
– Не отказываюсь; я надеюсь когда-нибудь быть в Париже и, с вашего позволения, явлюсь к вам. Ну, господа, время не ждет, уже половина первого. Идем!
Все трое спустились вниз. Кучер выслушал последние распоряжения своего господина и поехал по виа дель-Бабуино, а граф с молодыми людьми направились к Пьяцца-ди-Спанья по виа Фраттина, которая вывела их на Корсо между палаццо Фиано и палаццо Росполи.
Франц во все глаза смотрел на окна этого дворца; он не забыл о сигнале, условленном в Колизее между транстеверинцем и человеком в плаще.
– Которые из этих окон ваши? – спросил он графа насколько мог естественным тоном.
– Три последних, – отвечал тот с непритворной беспечностью, не угадывая подлинного значения вопроса.
Франц быстро окинул взглядом окна. Боковые были затянуты желтой камкой, а среднее – белой с красным крестом.
Человек в плаще сдержал свое обещание, и сомнений больше не было: человек в плаще и был граф Монте-Кристо.
Все три окна были еще пусты.
Повсюду уже готовились к карнавалу, расставляя стулья, строили подмостки, затягивали окна. Маски не смели показываться, а экипажи – разъезжать, пока не ударит колокол; но маски угадывались за всеми окнами, а экипажи за всеми воротами.
Франц, Альбер и граф продолжали идти по Корсо. По мере того как они приближались к Пьяцца-дель-Пополо, толпа становилась все гуще. Над толпой в середине площади высился обелиск с венчающим его крестом, а на скрещении трех улиц – Бабуино, Корсо и Рипетта – два столба эшафота, между которыми блестел полукруглый нож гильотины.
На углу они увидели графского управляющего, который ждал своего господина.
Окно, нанятое, по-видимому, за такую непомерную цену, что граф не хотел, чтобы гости знали об этом, находилось в третьем этаже большого дворца между виа дель-Бабуино и Монте-Пинчо. Комната представляла собой нечто вроде будуара, смежного со спальней; закрыв дверь спальни, занявшие будуар оказывались как бы у себя дома. На стульях были разложены весьма изящные костюмы паяцев из голубого и белого атласа.
– Так как вы разрешили мне самому выбрать костюмы, – сказал граф обоим друзьям, – то я распорядился, чтобы вам приготовили вот эти. Во-первых, в нынешнем году это самые модные, а во-вторых, они очень удобны для конфетти, потому что на них мука незаметна.
Франц почти не слышал слов графа и, может быть, даже недостаточно оценил его любезность; все его внимание было сосредоточено на том зрелище, которое представляла Пьяцца-дель-Пополо, и на страшном орудии, составлявшем в этот час ее главное украшение.
Первый раз в жизни Франц видел гильотину; мы говорим гильотину, потому что римская mandaia очень похожа на французское орудие смерти. Такой же нож, в виде полумесяца, режущий выпуклой стороной, но падающий с меньшей высоты, – вот и вся разница.
Два человека, сидя на откидной доске, на которую кладут осужденного, в ожидании казни закусывали – насколько мог рассмотреть Франц – хлебом и колбасой. Один из них приподнял доску, достал из-под нее флягу с вином, отпил глоток и передал ее товарищу; это были помощники палача.
Глядя на них, Франц чувствовал, что у корней его волос проступает пот.
Осужденные накануне были переведены из Новой тюрьмы в маленькую церковь Санта-Мария-дель-Пополо и провели там всю ночь, каждый с двумя священниками, приготовлявшими их к смерти, в освещенной множеством свечей часовне, перед которой шагали взад и вперед ежечасно сменявшиеся часовые.
Двойной ряд карабинеров выстроился от дверей церкви до эшафота и окружал его кольцом, оставляя свободным проход футов в десять шириною, а вокруг гильотины – пространство шагов в сто в окружности. Вся остальная площадь была заполнена толпой. Многие женщины держали детей на плечах, откуда этим юным зрителям отлично был виден эшафот.
Монте Пинчо казался обширным амфитеатром, все уступы которого были усеяны народом; балконы обеих церквей, на углах виа дель-Бабуино и виа ди-Рипетта, были переполнены привилегированной публикой; ступени папертей напоминали морские волны, подгоняемые к портику непрерывным приливом; каждый выступ стены, достаточно широкий, чтобы на нем мог поместиться человек, служил пьедесталом для живой статуи.
Слова графа оправдывались: очевидно, в жизни нет более интересного зрелища, чем смерть.
А между тем вместо тишины, которая, казалось, приличествовала торжественности предстоящей церемонии, от толпы исходил громкий шум, слагавшийся из хохота, гиканья и радостных возгласов; по-видимому, и в этом граф оказался прав: казнь была для толпы не чем иным, как началом карнавала.
Вдруг, как по мановению волшебного жезла, шум затих; церковные двери распахнулись.
Впереди выступало братство кающихся пилигримов, одетых в серые мешки с вырезами для глаз, держа в руках зажженные свечи; первым шествовал глава братства.
За пилигримами шел мужчина огромного роста. Он был обнажен, если не считать коротких холщовых штанов; на левом боку у него висел большой нож, вложенный в ножны; на правом плече он нес тяжелую железную палицу. Это был палач.
На ногах у него были сандалии, привязанные у щиколоток бечевками.
Вслед за палачом, в том порядке, в каком они должны были быть казнены, шли Пеппино и Андреа.
Каждого из них сопровождали два священника.
Ни у того, ни у другого глаза не были завязаны.
Пеппино шел довольно твердым шагом; по-видимому, ему успели дать знать о том, что его ожидает.
Андреа священники вели под руки.
Осужденные время от времени целовали распятие, которое им прикладывали к губам.
При одном их виде Франц почувствовал, что у него подкашиваются ноги; он взглянул на Альбера. Тот, бледнее своей манишки, безотчетным движением отшвырнул сигару, хотя выкурил ее только до половины.
Один лишь граф был невозмутим. Мало того, легкий румянец проступил на его мертвенно-бледном лице.
Ноздри его раздувались, как у хищного зверя, чующего кровь, а полураскрытые губы обнажали ряд зубов, белых и острых, как у шакала.
И при всем том на лице его лежало выражение мягкой приветливости, какого Франц еще никогда у него не замечал; особенно удивительны были его ласковые бархатные глаза.
Между тем осужденные приблизились к эшафоту, и уже можно было разглядеть их лица. Пеппино был красивый смуглолицый малый лет двадцати пяти с вольным и диким взором. Он высоко держал голову, словно высматривая, с какой стороны придет спасение..
Андреа был толст и приземист; по его гнусному, жестокому лицу трудно было определить возраст; ему можно было дать лет тридцать. В тюрьме он отпустил бороду. Голова его свешивалась на плечо, ноги подкашивались; казалось, все его существо двигается покорно и механически, без участия воли.
– Вы говорили, кажется, что будут казнить только одного, – сказал Франц графу.
– И я не солгал вам, – холодно ответил тот.
– А между тем осужденных двое.
– Да; но один из них близок к смерти, а другой проживет еще много лет.
– На мой взгляд, если его должны помиловать, то сейчас самое время.
– Так оно и есть; взгляните, – сказал граф.
И в самом деле, в ту минуту, когда Пеппино подходил к подножию эшафота, пилигрим, по-видимому замешкавшийся, никем не остановленный, пробрался сквозь цепь солдат, подошел к главе братства и передал ему вчетверо сложенную бумагу.
От пламенного взгляда Пеппино не ускользнула ни одна подробность этой сцены; глава братства развернул бумагу, прочел ее и поднял руку.
– Да будет благословен господь, и хвала его святейшеству папе! – произнес он громко и отчетливо. – Один из осужденных помилован.
– Помилован! – вскрикнула толпа, как один человек. – Один помилован!
Услышав слова «помилован», Андреа встрепенулся и поднял голову.
– Кто помилован? – крикнул он.
Пеппино молча, тяжело дыша, застыл на месте.
– Помилован Пеппино, прозванный Рокка Приори, – сказал глава братства.
И он передал бумагу начальнику карабинеров; тот прочел ее и возвратил.
– Пеппино помилован! – закричал Андреа, сразу стряхнув с себя оцепенение. – Почему помиловали его, а не меня? Мы должны были оба умереть; мне обещали, что он умрет раньше меня; вы не имеете права убивать меня одного, я не хочу умирать один, не хочу!
Он вырывался из рук священников, извивался, вопил, рычал, как одержимый, и пытался разорвать веревки, связывавшие его руки.
Палач сделал знак своим помощникам, они соскочили с эшафота и схватили осужденного.
– Что там происходит? – спросил Франц, обращаясь к графу.
Так как все говорили на римском диалекте, то он плохо понимал, в чем дело.
– Что там происходит? – повторил граф. – Разве вы не догадываетесь? Этот человек, который сейчас умрет, буйствует оттого, что другой человек не умрет вместе с ним; если бы ему позволили, он разорвал бы его ногтями и зубами, лишь бы не оставить ему жизни, которой сам лишается. О люди, люди! Порождение крокодилов, как сказал Карл Moop! – воскликнул граф, потрясая кулаками над толпой. – Я узнаю вас, во все времена вы достойны самих себя!
Андреа и помощники палача катались по пыльной земле, и осужденный продолжал кричать:
– Он должен умереть! Я хочу, чтобы он умер! Вы не имеете права убивать меня одного!
– Смотрите, – сказал граф, схватив молодых людей за руки, – смотрите, ибо, клянусь вам, на это стоит посмотреть: вот человек, который покорился судьбе, который шел на плаху, который готов был умереть, как трус, правда, но без сопротивления и жалоб. Знаете, что придавало ему силы? Что утешало его? Знаете, почему он покорно ждал казни? Потому, что другой также терзался; потому, что другой также должен был умереть; потому, что другой должен был умереть раньше него! Поведите закалывать двух баранов, поведите двух быков на убой и дайте понять одному из них, что его товарищ не умрет; баран заблеет от радости, бык замычит от счастья, а человек, созданный по образу и подобию божию, человек, которому бог заповедал, как первейший, единственный, высший закон – любовь к ближнему, человек, которому бог дал язык, чтобы выражать свои мысли, – каков будет его первый крик, когда он узнает, что его товарищ спасен? Проклятие. Хвала человеку, венцу природы, царю творения!
И граф засмеялся, но таким страшным смехом, каким может смеяться только тот, кто много выстрадал.
Между тем борьба возле гильотины продолжалась; смотреть на это было невмоготу. Помощники палача тащили Андреа на эшафот; он восстановил против себя всю толпу, и двадцать тысяч голосов кричали: «Казнить! Казнить его!»
Франц отшатнулся; но граф снова схватил его за руку и держал у окна.
– Что с вами? – спросил он его. – Вам жаль его? Нечего сказать, уместная жалость! Если бы вы узнали, что под вашим окном бегает бешеная собака, вы схватили бы ружье, выскочили на улицу и без всякого сожаления застрелили бы в упор бедное животное, которое, в сущности, только тем и виновато, что его укусила другая бешеная собака, и оно платит тем же, а тут вы жалеете человека, которого никто не кусал и который тем не менее убил своего благодетеля и теперь, когда он не может убивать, потому что у него связаны руки, исступленно требует смерти своего товарища по заключению, своего товарища по несчастью! Нет, смотрите, смотрите!
Требование графа было почти излишне: Франц не мог оторвать глаз от страшного зрелища. Помощники палача втащили осужденного на эшафот и, несмотря на его пинки, укусы и крики, принудили его стать на колени. Палач стал сбоку от него, держа палицу наготове; по его знаку помощники отошли. Осужденный хотел приподняться, но не успел: палица с глухим стуком ударила его по левому виску; Андреа повалился ничком, как бык, потом перевернулся на спину. Тогда палач бросил палицу, вытащил нож, одним ударом перерезал ему горло, стал ему на живот и начал топтать его ногами. При каждом нажиме ноги струя крови била из шеи казненного.
Франц не мог дольше выдержать; он бросился в глубь комнаты и почти без чувств упал в кресло.
Альбер, зажмурив глаза, вцепился в портьеру окна.
Граф стоял, высоко подняв голову, словно торжествующий гений зла.
XV. Карнавал в Риме
Когда Франц пришел в себя, он увидел, что Альбер, бледный как смерть, пьет воду, а граф уже облачается в костюм паяца. Франц невольно взглянул на площадь: гильотина, палачи, казненный – все исчезло; оставалась только толпа, шумная, возбужденная, веселая. Колокол Монте-Читорио, который возвещает только смерть папы и открытие карнавала, громко гудел.
– Что происходит? – спросил он графа.
– Ничего, ровно ничего, как видите, – отвечал тот. – Только карнавал открылся. Одевайтесь скорее.
– Удивительно, – сказал Франц, – этот ужас рассеялся, как сон.
– Да это и был только сон – кошмар, который вам привиделся.
– Мне – да; а казненному?
– И ему тоже; только он уснул навсегда, а вы проснулись; и кто скажет, который из вас счастливее?
– А где же Пеппино? – спросил Франц. – Что с ним сталось?
– Пеппино – малый рассудительный, без излишнего самолюбия; вместо того чтобы обидеться, что о нем позабыли, он воспользовался этим и нырнул в толпу, не поблагодарив даже почтенных священников, которые сопровождали его до эшафота. Поистине человек – животное неблагодарное и эгоистичное… Но одевайтесь, сударь, смотрите, ваш друг подает вам пример.
В самом деле Альбер уже натянул атласные штаны поверх черных панталон и лакированных башмаков.
– Ну как, Альбер, – спросил Франц, – расположены вы дурачиться? Только говорите правду.
– Нет, не расположен, – отвечал Альбер, – но, в сущности, я рад, что видел это. Я согласен с графом: если однажды хватило сил перенести такое зрелище, то в конце концов оно оказывается единственным, которое еще способно доставить сильные ощущения.
– Не говоря уже о том, что только в такие минуты можно изучать людей, – сказал граф. – На первой ступени эшафота смерть срывает маску, которую человек носил всю жизнь, и тогда показывается его истинное лицо. Надо сознаться, лицо Андреа было не из привлекательных… Какой мерзавец!.. Одевайтесь, господа, одевайтесь!
Со стороны Франца было бы смешно разыгрывать институтку и не последовать примеру своих спутников. Он надел костюм и маску, которая была нисколько не бледнее его лица.
Окончив туалет, они сошли вниз. У дверей их ждала коляска, полная конфетти и букетов.
Они заняли свое место в веренице экипажей.
Трудно было себе представить более резкую перемену. Вместо мрачного и безмолвного зрелища смерти Пьяцца-дель-Пополо являла картину веселой и шумной оргии. Маски толпами стекались отовсюду, выскакивали из дверей, вылезали из окон; из всех улиц выезжали экипажи, нагруженные пьерро, арлекинами, домино, маркизами, транстеверинцами, клоунами, рыцарями, поселянами; все это кричало, махало руками, швыряло яйца, начиненные мукой, конфетти, букеты, осыпало шутками и метательными снарядами своих и чужих, знакомых и незнакомых, и никто не имел права обижаться, – на все отвечали смехом.
Франц и Альбер походили на людей, которых привели в кабак, чтобы рассеять их тоску, и которые, по мере того как пьянеют, чувствуют, что прошлое заволакивается туманом. Они еще были во власти только что виденного; но мало-помалу они заразились общим весельем, им казалось, что их рассудок готов помутиться, их тянуло с головой окунуться в этот шум, в эту сутолоку, в этот неистовый вихрь. Горсть конфетти, брошенная из соседнего экипажа в Морсера, осыпала Альбера и его спутников, он почувствовал уколы на шее и на не защищенной маской части лица, словно в него бросили сотней булавок; это заставило его принять участие в общей битве, к которой уже присоединились все встречавшиеся им маски. Он тоже, как все, встал в экипаже и со всей доступной ему силой и ловкостью принялся, в свою очередь, осыпать соседей яйцами и драже.
Ожесточенный бой начался. Воспоминание о виденном полчаса тому назад бесследно изгладилось из мыслей обоих друзей. Пестрая, изменчивая, головокружительная картина, бывшая у них перед глазами, поглощала их целиком. Что касается графа Монте-Кристо, то он, как мы уже говорили, во все время казни ни на минуту не терял спокойствия.
Вообразите длинную, красивую улицу Корсо, от края до края окаймленную нарядными дворцами, все балконы которых увешаны коврами и все окна задрапированы; на балконах и в окнах триста тысяч зрителей – римлян, итальянцев, чужестранцев, прибывших со всех концов света; смесь всех аристократий – аристократий крови, денег и таланта; прелестные женщины, увлеченные живописным зрелищем, наклоняются с балконов, высовываются из окон, осыпают проезжающих дождем конфетти, на который им отвечают букетами; воздух насыщен падающими вниз драже и летящими вверх цветами, а на тротуарах – сплошная беспечная толпа в самых нелепых костюмах: гуляющие исполинские кочны капусты, бычьи головы, мычащие, на человеческих туловищах, собаки, шагающие на задних лапах; и вдруг, во всей этой сумятице, под приподнятой маской, как в искушении св. Антония, пригрезившемся Калло, мелькает очаровательное лицо какой-нибудь Астарты, за которой бросаешься следом, но путь преграждают какие-то вертлявые бесы, вроде тех, что снятся по ночам, – вообразите все это, и вы получите слабое представление о том, что такое карнавал в Риме.
После того как они два раза проехали по Корсо, граф воспользовался остановкой в движении экипажей и попросил у своих спутников разрешения покинуть их, оставив коляску в их распоряжении. Франц поднял глаза и увидел фасад палаццо Росполи. В среднем окне, затянутом белой камкой с красным крестом, виднелось голубое домино, под которым воображение Франца тотчас нарисовало прелестную незнакомку, виденную им в театре Арджентина.
– Господа, – сказал граф, выходя из экипажа, – когда вам наскучит быть актерами и захочется превратиться в зрителей, не забудьте, что вас ждут места у моих окон; а до тех пор располагайте моим кучером, экипажем и слугами.
Мы забыли сказать, что кучер графа был наряжен черным медведем, точь-в-точь как Одри в «Медведе и Паше», а лакеи, стоявшие на запятках, были одеты зелеными обезьянами; маски их были снабжены пружиной, при помощи которой они строили гримасы прохожим.
Франц поблагодарил графа за его любезное предложение; что касается Альбера, то он был занят тем, что засыпал цветами коляску, в которой сидели весьма кокетливо одетые поселянки.
К несчастью, поток экипажей снова пришел в движение, и в то время как его уносило к Пьяцца-дель-Пополо, экипаж, привлекший внимание Альбера, направился к Венецианскому дворцу.
– Вы видели? – сказал он Францу.
– Что? – спросил Франц.
– Вон ту коляску с поселянками?
– Нет.
– Жаль! Я уверен, что это очаровательные женщины.
– Какое несчастье, что вы в маске, – сказал Франц, – ведь это самый подходящий случай вознаградить себя за ваши любовные неудачи!
– Я очень надеюсь, что карнавал чем-нибудь да вознаградит меня, – отвечал Альбер полушутя, полусерьезно.
Вопреки надеждам Альбера день прошел без особенных приключений, если не считать нескольких встреч с той же коляской. Во время одной из этих встреч, случайно ли, нет ли, маска Альбера отвязалась.
Тогда он схватил в охапку весь оставшийся у него запас цветов и бросил его в коляску.
Вероятно, одна из очаровательных женщин, которых Альбер угадывал под нарядными костюмами поселянок, была тронута его вниманием; когда коляска снова поравнялась с экипажем молодых людей, она бросила им букет фиалок. Альбер подхватил его. Так как Франц не имел никаких оснований полагать, что фиалки предназначаются ему, то он не препятствовал Альберу завладеть ими. Альбер победоносно вдел букет в петлицу, и экипаж торжественно проследовал дальше.
– Вот и начало любовного похождения! – сказал Франц.
– Смейтесь сколько угодно, – отвечал Альбер, – но я думаю, что это в самом деле так, и с этим букетом я уже не расстанусь.
– Еще бы! – продолжал, смеясь, Франц. – Как же иначе узнать друг друга?
Впрочем, шутка стала вскоре походить на правду, потому что, когда Франц и Альбер снова встретились с той же коляской, маска, бросившая Альберу букет, увидав, что он вдел его в петлицу, захлопала в ладоши.
– Браво, браво, – сказал Франц, – все идет как по маслу! Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас одного?
– Нет, нет, не будем торопиться! Я не хочу, чтобы она думала, что меня стоит только поманить. Если прелестной поселянке угодно продолжать игру, то мы найдем ее завтра, вернее, она сама нас найдет; она даст о себе знать, и тогда я решу, что делать.
– Браво, Альбер, вы мудры, как Нестор, и благоразумны, как Улисс; и если вашей Цирцее удастся превратить вас в какое-нибудь животное, то она или очень искусна, или очень могущественна.
Альбер был прав: прекрасная незнакомка, по-видимому, решила в этот день не продолжать заигрывания; молодые люди сделали еще несколько кругов, но больше не видели коляску с поселянками; она, вероятно, свернула в одну из боковых улиц.
Тогда они возвратились в палаццо Росполи, но там уже не было ни графа, ни голубого домино; у затянутых желтой камкой окон еще стояли зрители, вероятно, приглашенные графом.
В эту минуту тот же колокол, который возвестил начало карнавала, возвестил его окончание. Цепь экипажей на Корсо тотчас же распалась, и экипажи мгновенно скрылись в поперечных улицах.
Франц и Альбер находились как раз против виа-делле-Маратте.
Кучер, не говоря ни слова, свернул за угол и, миновав палаццо Росполи, выехал на Пьяцца-ди-Спанья и подкатил к гостинице.
Маэстро Пастрини вышел на порог встречать своих гостей.
Первой заботой Франца было осведомиться о графе и выразить сожаление, что они вовремя за ним не заехали; но Пастрини успокоил его, сказав, что граф Монте-Кристо заказал для себя второй экипаж, который и заехал за ним в палаццо Росполи. Кроме того, граф поручил ему передать молодым людям ключ от его ложи в театре Арджентина.
Франц спросил Альбера о его планах на вечер, но Альбер больше думал о том, как осуществить некий замысел, чем о театре; вместо того чтобы ответить Францу, он обратился к маэстро Пастрини с вопросом, не может ли тот достать ему портного.
– Портного? – спросил хозяин. – Зачем?
– Чтобы сшить нам к завтрашнему дню костюмы поселян, – сказал Альбер.
Маэстро Пастрини покачал головой.
– Сшить вам к завтрашнему дню два костюма! – воскликнул он. – Вот уж, право, не в обиду будь сказано, ваша милость, чисто французское желание. Два костюма! Да вы всю неделю карнавала не найдете ни одного портного, который согласился бы пришить полдюжины пуговиц к жилету, хотя бы вы заплатили ему по целому скудо за штуку!
– Значит, невозможно достать такие костюмы?
– Отчего же? Можно достать готовые. Поручите это дело мне, и завтра утром, проснувшись, вы найдете целую груду шляп, курток и штанов. Не беспокойтесь, останетесь довольны.
– Друг мой, – сказал Франц Альберу, – положимся на нашего хозяина; он уже доказал нам, что он человек находчивый; давайте пообедаем, а потом поедем слушать «Итальянку в Алжире».
– Так и быть, поедем слушать «Итальянку в Алжире», – сказал Альбер. – Но только помните, маэстро Пастрини, что для меня и для моего друга, – продолжал он, указав на Франца, – чрезвычайно важно завтра же иметь костюмы, о которых я вас просил.
Хозяин еще раз подтвердил, что их милостям не о чем беспокоиться и что все будет сделано согласно их пожеланиям, после чего Франц и Альбер отправились к себе, чтобы снять маскарадные костюмы паяцев.
Альбер бережно спрятал букетик фиалок; это была та примета, по которой прекрасная поселянка могла его узнать.
Друзья сели за стол; Альбер не преминул обратить внимание на существенную разницу между кухней маэстро Пастрини и кухней графа Монте-Кристо. И Франц, хотя и относился к графу с некоторым предубеждением, должен был по совести признать, что это сравнение было далеко не в пользу повара гостиницы.
Когда им подали десерт, лакей осведомился, в котором часу молодым людям нужен экипаж. Альбер и Франц в нерешительности переглянулись. Лакей угадал их мысль.
– Его сиятельство граф Монте-Кристо, – сказал он, – приказал, чтобы экипаж весь день был в распоряжении ваших милостей. Ваши милости могут располагать им без всякого стеснения.
Молодые люди решили воспользоваться любезным вниманием графа; они велели запрягать, а сами пошли переодеваться, ибо их костюмы несколько поизмялись во время многочисленных боев, в которых они принимали участие.
Переодевшись, они поехали в театр и расположились в ложе графа.
Во время первого действия в свою ложу вошла графиня Г. Она первым делом взглянула туда, где накануне сидел граф, и увидела Франца и Альбера в ложе того человека, о котором она не далее как накануне высказала Францу такое странное мнение.
Ее бинокль был так настойчиво направлен на Франца, что тот почувствовал, что было бы жестоко не удовлетворить тотчас же ее любопытство; поэтому, воспользовавшись привилегией итальянских театралов, которым разрешается превращать зрительный зал в собственную гостиную, приятели вышли из ложи и отправились засвидетельствовать свое почтение графине.
Не успели они войти, как графиня указала Францу на почетное место рядом с собою. Альбер сел сзади.
– Итак, – сказала она Францу, едва дав ему время сесть, – вы, по-видимому, не теряя времени, поспешили познакомиться с новоявленным лордом Рутвеном и даже подружились с ним?
– Не так коротко, как вы предполагаете, графиня, – отвечал Франц, – но не смею отрицать, что мы сегодня весь день пользовались его любезностью.
– Весь день?
– Да, именно весь день; утром мы у него завтракали, днем катались по Корсо в его экипаже, а теперь, вечером, сидим в его ложе.
– Так вы с ним знакомы?
– И да и нет.
– Как так?
– Это длинная история.
– Вы мне ее расскажете?
– Она напугает вас.
– Вот и хорошо.
– Подождите по крайней мере до развязки.
– Хорошо, я люблю законченные рассказы. Но все-таки расскажите, как вы встретились? Кто вас познакомил?
– Никто. Он сам познакомился с нами.
– Когда?
– Вчера вечером, после того как мы расстались.
– Каким образом?
– Через весьма прозаическое посредство хозяина нашей гостиницы.
– Так он тоже живет в гостинице «Лондон»?
– Да, и даже на одной площадке с нами.
– Как его зовут? Вы должны знать его имя.
– Разумеется. Граф Монте-Кристо.
– Что это такое? Это не родовое имя.
– Нет, это имя острова, который он купил.
– И он граф?
– Тосканский граф.
– Ну что ж, проглотим и этого, – сказала графиня, принадлежавшая к одной из древнейших венецианских фамилий. – Что он за человек?
– Спросите у виконта де Морсера.
– Слышите, виконт, – сказала графиня, – меня отсылают к вам.
– Мы были бы чересчур придирчивы, графиня, если бы не считали его очаровательным, – отвечал Альбер. – Человек, с которым мы были бы дружны десять лет, не сделал бы для нас того, что он сделал. И притом с такой любезностью, чуткостью и вниманием! Не приходится сомневаться, что это вполне светский человек.
– Вот увидите, – сказала графиня, смеясь, – что мой вампир какой-нибудь парвеню, который хочет, чтобы ему простили его миллионы, и поэтому старается казаться Ларой, чтобы его не спутали с господином Ротшильдом. А ее вы видели?
– Кого ее? – спросил Франц улыбнувшись.
– Вчерашнюю красавицу гречанку?
– Нет. Мы как будто слышали звуки ее лютни, но она осталась незримой.
– Не напускайте таинственности, дорогой Франц, – сказал Альбер. – Кто, по-вашему, был в голубом домино у окна, затянутого белой камкой?
– А где было это окно? – спросила графиня.
– В палаццо Росполи.
– Так у графа было окно в палаццо Росполи?
– Да. Вы были на Корсо?
– Конечно, была.
– Так вы, может быть, заметили два окна, затянутые желтой камкой, и одно, затянутое белой с красным крестом? Эти три окна принадлежат графу.
– Так это настоящий набоб! Вы знаете, сколько стоят три таких окна во время карнавала, да еще в палаццо Росполи, в лучшем месте Корсо?
– Двести или триста римских скудо.
– Скажите лучше – две или три тысячи.
– Ах, черт возьми!
– Это его остров приносит ему такие доходы?
– Его остров? Он не приносит ему ни гроша.
– Так зачем же он его купил?
– Из прихоти.
– Так он оригинал?
– Должен сознаться, – сказал Альбер, – что он мне показался несколько эксцентричным. Если бы он жил в Париже и появлялся в свете, то я сказал бы, что он либо шут, ломающий комедию, либо прощелыга, которого погубила литература; он сегодня произносил монологи, достойные Дидье или Антони.[33]
В ложу вошел новый гость, и Франц согласно этикету уступил ему свое место. Разговор, естественно, принял другое направление.
Час спустя друзья вернулись в гостиницу. Маэстро Пастрини уже позаботился об их костюмах и уверял, что они будут довольны его распорядительностью.
В самом деле, на следующий день в десять часов утра он вошел в комнату Франца в сопровождении портного, нагруженного костюмами римских поселян. Друзья выбрали себе два одинаковых, более или менее по росту, и велели нашить на каждую из шляп метров по двадцать лент, а также достать им два шелковых шарфа с поперечными пестрыми полосами, которыми крестьяне подпоясываются в праздничные дни.
Альберу не терпелось посмотреть, идет ли ему его новый костюм; он состоял из куртки и штанов голубого бархата, чулок со стрелками, башмаков с пряжками и шелкового жилета. Наружность Альбера могла только выиграть в этом живописном костюме, и, когда он стянул поясом свою стройную талию и заломил набекрень шляпу, на которой развевались ленты, Францу пришло на ум, что физическое превосходство, которое мы приписываем некоторым народам, нередко зависит от костюма. Например, турки, некогда столь живописные в своих длинных халатах ярких цветов, разве не отвратительны теперь в синих, наглухо застегнутых сюртуках и греческих фесках, делающих их похожими на винные бутылки, запечатанные красным сургучом?
Франц сказал несколько лестных слов Альберу, который, стоя перед зеркалом, взирал на себя с улыбкой, в значении которой было бы трудно усомниться.
Вошедший граф Монте-Кристо застал их за этим занятием.
– Господа, – сказал он, – как ни приятно делить с кем-нибудь веселье, но свобода еще приятнее, а потому я пришел сказать вам, что на сегодня и на все остальные дни предоставляю в полное ваше распоряжение экипаж, в котором вы вчера катались. Наш хозяин, вероятно, сказал вам, что я держу у него три или четыре экипажа, так что вы меня не стесните; пользуйтесь им совершенно свободно и для развлечений, и для дел. Если вам нужно будет повидаться со мной, вы всегда найдете меня в палаццо Росполи.
Молодые люди начали было отнекиваться, но, в сущности, у них не было никаких веских причин отказываться от предложения, для них весьма приятного, и они кончили тем, что приняли его.
Граф Монте-Кристо просидел у них с четверть часа, с полной непринужденностью разговаривая о том о сем. Как мы уже заметили, он был знаком с литературой всех народов. Один взгляд на стены его гостиной показал Альберу и Францу, что он любитель картин. Несколько беглых, оброненных при случае замечаний доказали им, что он не чужд наукам; его, по-видимому, особенно занимала химия.
Молодые люди не притязали на то, чтобы отплатить графу радушием за радушие; с их стороны было бы нелепо в ответ на его изысканный завтрак предложить ему отведать весьма посредственной стряпни маэстро Пастрини. Они откровенно высказали ему это, и он вполне оценил их такт.
Альбер восхищался манерами графа и признал бы его за истинного джентльмена, если бы тот не был так учен. Больше всего его радовала возможность свободно располагать коляской. Он имел виды на своих прелестных поселянок, а так как накануне они катались в весьма элегантном экипаже, то ему очень хотелось не уступать им в этом отношении. В половине второго молодые люди вышли на крыльцо; кучер и лакеи придумали надеть ливреи поверх своих звериных шкур, отчего стали еще смешнее вчерашнего и заслужили похвалы Альбера и Франца.
Увядший букетик фиалок трогательно поник в петличке Альбера.
С первым ударом колокола они пустились в путь по виа Витториа и устремились на Корсо.
На втором круге в их коляску упал букетик свежих фиалок, брошенный из экипажа, в котором сидели женщины, одетые паяцами. Альбер понял, что по их примеру вчерашние поселянки переменили костюмы и что, быть может, случайно, а возможно, из тех же галантных намерений «контадинки» нарядились паяцами.
Альбер заменил увядший букетик свежим, но продолжал держать его в руке, и когда снова поравнялся с коляской, то нежно поднес его к губам, что, по-видимому, доставило большое удовольствие не только бросившей букетик даме, но и ее веселым подругам.
Оживление на Корсо было не меньше, чем накануне; очень вероятно, что тонкий наблюдатель подметил бы даже возрастание шума и веселья. Граф на минуту показался в своем окне, но когда экипаж второй раз проезжал мимо, его уже не было.
Заигрывание между Альбером и дамой с фиалками продолжалось, разумеется, весь день.
Вечером, вернувшись домой, Франц нашел письмо из посольства; ему сообщали, что завтра его святейшество окажет ему честь принять его. Каждый раз, когда он бывал в Риме, он испрашивал эту милость; и, как всегда, движимый не только благочестием, но и благодарностью, он не хотел покинуть столицу христианского мира, не повергнув свое почтительное поклонение к стопам наместника св. Петра, являвшего собой редкий образец всех добродетелей.
Поэтому для него не могло быть и речи, чтобы на следующий день принять участие в карнавале. Ибо, невзирая на сердечную доброту, которая сопутствует его величию, никто без благоговейного трепета не готовится преклонить колени перед благородным старцем, именуемым Григорием XVI.
Выйдя из Ватикана, Франц прямым путем вернулся в гостиницу, избегая даже мимоходом пройти по Корсо. Он был полон благочестивых мыслей и боялся осквернить их безумствами карнавала.
В десять минут шестого вернулся Альбер. Он был в полном восторге; его дама появилась снова в костюме поселянки и, встретясь с коляской Альбера, подняла маску. Она была очаровательна.
Франц искренно поздравил Альбера; тот принял его поздравления как должное. Он уверял, что по некоторым признакам прекрасная незнакомка, несомненно, принадлежит к высшей аристократии. Он твердо решил на следующий день написать ей. Франц, выслушав это признание, догадался, что Альбер хочет о чем-то попросить его, но стесняется. Он стал допытываться, уверяя своего друга, что ради его счастья готов на любые жертвы. Альбер заставил себя просить ровно столько, сколько требовала учтивость, а затем признался Францу, что тот окажет ему большую услугу, если согласится на другой день уступить коляску ему одному.
Альбер считал, что прекрасная поселянка приподняла маску только потому, что он был один.
Разумеется, Франц не был таким эгоистом, чтобы мешать Альберу в самом разгаре приключения, обещавшего быть столь приятным и лестным. Он хорошо знал беззастенчивую болтливость своего легкомысленного друга и не сомневался, что тот расскажет ему о своем романе со всеми подробностями, а так как, исколесив всю Италию вдоль и поперек, он сам за три года ни разу не имел случая даже завязать какую-нибудь интрижку, то он не прочь был узнать, как это делается.
Он обещал Альберу удовольствоваться ролью зрителя и сказал, что будет любоваться карнавалом из окон палаццо Росполи.
Франц сдержал слово и на другой день, стоя у окна, смотрел, как Альбер катается взад и вперед по Корсо. В руках он держал огромный букет, в который, вероятно, была засунута любовная записка. Это предположение превратилось в уверенность, когда Франц увидел этот букет в руках очаровательной женщины, одетой в розовый костюм паяца.
Альбер вернулся домой уже не в восторге, а в экстазе. Он не сомневался, что прекрасная незнакомка ответит ему тем же способом. Франц пошел навстречу его желаниям, заявив, что он устал от всей этой сутолоки и решил весь следующий день посвятить своему альбому и своим заметкам.
Альбер не ошибся в своих прорицаниях: на другой день, вечером, он влетел в комнату Франца, держа за уголок сложенную вчетверо бумажку и победно размахивая ею.
– Ну что? – воскликнул он. – Что я говорил?
– Она ответила! – воскликнул Франц.
– Читайте.
Тон, которым это было сказано, не поддается описанию. Франц взял записку и прочел:
«Во вторник вечером, в семь часов, выйдите из коляски против виа деи-Понтефичи и последуйте за поселянкой, которая вырвет у вас мокколетто. Когда вы взойдете на первую ступеньку церкви Сан-Джакомо, не забудьте привязать к рукаву вашего костюма паяца розовый бант.
До вторника вы меня не увидите.
Верность и тайна».
– Ну-с, дорогой друг, – сказал Альбер, когда Франц прочел письмо, – что вы на это скажете?
– Скажу, – отвечал Франц, – что дело принимает весьма приятный оборот.
– И я так думаю, – сказал Альбер, – и очень боюсь, что вам придется ехать одному на бал к герцогу Браччано.
Франц и Альбер утром получили приглашение на бал к знаменитому римскому банкиру.
– Берегитесь, дорогой Альбер, – сказал Франц, – у герцога соберется вся знать; и если ваша прекрасная незнакомка в самом деле аристократка, то она должна будет там появиться.
– Появится она там или нет, я не изменю своего мнения о ней, – сказал Альбер. – Вы прочли записку?
– Да.
– Вы знаете, какое образование получают в Италии женщины mezzo cito?[34]
– Да, – ответил Франц.
– Так перечтите записку, обратите внимание на почерк и найдите хоть одну стилистическую или орфографическую ошибку.
В самом деле почерк был прекрасный, орфография безукоризненна.
– Вам везет! – сказал Франц, возвращая записку Альберу.
– Смейтесь сколько вам угодно, шутите сколько хотите, – возразил Альбер, – а я влюблен.
– Боже мой, вы меня пугаете, – сказал Франц, – я вижу, что мне придется не только ехать без вас на бал к герцогу Браччано, но даже того и гляди одному вернуться во Флоренцию.
– Во всяком случае, если моя незнакомка так же любезна, как хороша собой, то я решительно заявляю, что остаюсь в Риме по меньшей мере на шесть недель. Я обожаю Рим и к тому же всегда имел склонность к археологии.
– Еще два-три таких приключения, и я начну надеяться, что увижу вас членом Академии надписей и изящной словесности.
Вероятно, Альбер принялся бы серьезно обсуждать свои права на академическое кресло, но слуга доложил, что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита из-за любви. Поэтому он поспешил сесть за стол вместе с приятелем, готовясь возобновить этот разговор после обеда.
Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Кристо. Молодые люди уже два дня не видели его. От маэстро Пастрини они узнали, что он уехал по делам в Чивита-Веккию. Уехал он накануне вечером и только час как вернулся.
Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, либо на сей раз не нашлось повода для высказывания язвительных и горьких мыслей, но только в этот вечер он был такой, как все. Францу он казался неразрешимой загадкой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость на острове Монте-Кристо узнал его; между тем он со времени их второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже однажды видел его. А Франц, как ему ни хотелось намекнуть на их первую встречу, боялся досадить человеку, показавшему себя таким предупредительным по отношению к нему и к его другу; поэтому он продолжал ту же игру, что и граф.
Монте-Кристо, узнав, что Франц и Альбер хотели купить ложу в театре Арджентина и что все ложи оказались заняты, принес им ключ от своей ложи, – так по крайней мере он объяснил свое посещение.
Франц и Альбер стали было отказываться, говоря, что не хотят лишать его удовольствия; но граф возразил, что собирается в театр Палли и его ложа в театре Арджентина будет пустовать, если они ею не воспользуются.
После этого молодые люди согласились.
Франц мало-помалу привык к бледности графа, так сильно поразившей его в первый раз. Он не мог не отдать должного строгой красоте его лица, главным недостатком или, быть может, главным достоинством которого была бледность. Граф был настоящий байроновский герой, и Францу стоило не только увидеть его, но хотя бы подумать о нем, чтобы тотчас же представить себе его мрачную голову на плечах Манфреда или под шляпой Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о неотступных горьких думах; пламенный взор проникал до самой глубины души; насмешливые и гордые губы придавали всему, что он говорил, особенный оттенок, благодаря которому его слова неизгладимо врезывались в память слушателей.
Графу было, вероятно, уже лет сорок, но никто бы не усомнился, что он одержал бы верх над любым более молодым соперником. В довершение сходства с фантастическими героями английского поэта он обладал огромным обаянием.
Альбер не переставал твердить о счастливой случайности, благодаря которой они познакомились с таким неоценимым человеком. Франц был более сдержан, но и он поддавался тому влиянию, которое всегда оказывает на окружающих незаурядный человек.
Он вспомнил о том, что граф уже несколько раз выражал намерение посетить Париж, и не сомневался, что при своей эксцентричности, характерной наружности и несметном богатстве граф произведет там сенсацию.
А между тем он не чувствовал никакого желания очутиться в Париже одновременно с ним.
Вечер прошел так, как обычно проходят вечера в итальянских театрах: зрители, вместо того чтобы слушать певцов, ходили друг к другу в гости. Графиня Г. хотела навести разговор на графа, но Франц сказал ей, что у него есть гораздо более занимательная новость и, невзирая на лицемерные протесты Альбера, сообщил ей о великом событии, уже три дня занимавшем мысли обоих друзей.
Такие приключения, если верить путешественникам, в Италии не редкость – поэтому графиня не выразила никакого удивления и поздравила Альбера с началом любовного похождения, обещавшего так приятно завершиться.
Молодые люди откланялись, условившись встретиться с графиней на балу у герцога Браччано, куда был приглашен весь Рим. Дама с фиалками сдержала слово: ни на следующий, ни на третий день она не давала о себе знать.
Наконец наступил вторник – последний, самый шумный день карнавала. В этот вторник театры открываются с утра, в десять часов, потому что в восемь часов вечера начинается пост. Во вторник все, кто по недостатку денег, времени или охоты не принимал участия в празднике, присоединяются к вакханалии и вносят свою долю в общее движение и шум.
С двух часов до пяти Франц и Альбер кружили в цепи экипажей и перебрасывались пригоршнями конфетти со встречными колясками и пешеходами, которые протискивались между ногами лошадей и колесами экипажей так ловко, что, несмотря на невообразимую давку, не произошло ни одного несчастного случая, ни одной ссоры, ни одной потасовки. Итальянцы в этом отношении удивительный народ. Для них праздник – поистине праздник. Автор этой повести, проживший в Италии около шести лет, не помнит, чтобы какое-нибудь торжество было нарушено одним из тех происшествий, которые неизменно сопутствуют нашим празднествам.
Альбер красовался в своем костюме паяца; на плече развевался розовый бант, концы которого свисали до колен. Чтобы не произошло путаницы, Франц надел костюм поселянина.
Чем ближе время подходило к вечеру, тем громче становился шум. На мостовой, в экипажах, у окна не было рта, который бы безмолвствовал, не было руки, которая бы бездействовала; это был поистине человеческий ураган, слагавшийся из грома криков и града конфетти, драже, яиц с мукой, апельсинов и цветов.
В три часа звуки выстрелов, с трудом покрывая этот дикий шум, одновременно раздались на Пьяцца-дель-Пополо и у Венецианского дворца и возвестили начало скачек.
Скачки, так же как и мокколи, составляют непременную принадлежность последнего дня карнавала. По звуку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпались по ближайшим боковым улицам.
Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с удивительной ловкостью и быстротой, хотя полиция нисколько не заботится о том, чтобы указывать места или направлять движение.
Пешеходы стали вплотную к дворцам, послышались топот копыт и стук сабель.
Отряд карабинеров, по пятнадцати в ряд, развернувшись во всю ширину улицы, промчался галопом по Корсо, очищая его для скачек. Когда отряд доскакал до Венецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что улица свободна.
В ту же минуту под неистовый оглушительный рев, словно тени, пронеслись восемь лошадей, подстрекаемые криками трехсот тысяч зрителей и железными колючками, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя с замка Св. Ангела раздалось три пушечных выстрела – это означало, что выиграл третий номер.
Тотчас же, без всякого другого сигнала, экипажи снова хлынули на Корсо из всех соседних улиц, словно на миг задержанные ручьи разом устремились в питаемое ими русло, и огромная река понеслась быстрее прежнего между гранитными берегами.
Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще новый источник шума и сутолоки: на сцену выступили продавцы мокколи.
Мокколи, или мокколетти, – это восковые свечи разной толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой тоненькой свечкой; для действующих лиц последнего акта карнавала в Риме они являются предметом двух противоположных забот:
1) не давать гасить свой мокколетто;
2) гасить чужие мокколетти.
В этом смысле мокколетто похож на жизнь: человек нашел только один способ передавать ее, да и тот получил от бога.
Но он нашел тысячу способов губить ее; правда, в этом случае ему несколько помогал дьявол.
Чтобы зажечь мокколетто, достаточно поднести его к огню.
Но как описать тысячи способов, изобретенных для тушения мокколетти: исполинские мехи, чудовищные гасильники, гигантские веера?
Мокколетти раскупали нарасхват. Франц и Альбер последовали примеру других.
Вечер быстро наступал, и под пронзительный крик тысяч продавцов: «Мокколи!» – над толпой зажглись первые звезды. Это послужило сигналом. Не прошло и десяти минут, как от Венецианского дворца до Пьяцца-дель-Пополо засверкало пятьдесят тысяч огоньков.
Это был словно праздник блуждающих огней.
Трудно представить себе это зрелище.
Вообразите, что все звезды спустились с неба и закружились на земле в неистовой пляске. А в воздухе стоит такой крик, какого никогда не слышало человеческое ухо на всем остальном земном шаре.
К этому времени окончательно исчезают все сословные различия. Факкино преследует князя, князь – транстеверинца, транстеверинец – купца; и все это дует, гасит, снова зажигает. Если бы в этот миг появился древний Эол, он был бы провозглашен королем мокколи, а Аквилон – наследным принцем.
Этот яростный огненный бой длился около двух часов; на Корсо было светло, как днем; можно было разглядеть лица зрителей в окнах четвертого и пятого этажей.
Каждые пять минут Альбер смотрел на часы; наконец, они показали семь.
Друзья проезжали как раз мимо виа деи-Понтефичи. Альбер выскочил из коляски, держа в руке мокколетто.
Несколько масок окружило его, дуя на его свечу; но, будучи ловким боксером, он отшвырнул их от себя шагов на десять и побежал к церкви Сан-Джакомо.
Паперть кишела любопытными и масками, которые наперерыв старались выхватить или потушить друг у друга свечу. Франц следил глазами за Альбером и видел, как тот взошел на первую ступеньку; почти тотчас же маска, одетая в столь хорошо знакомый костюм поселянки, протянула руку, и на этот раз Альбер без сопротивления отдал мокколетто.
Франц был слишком далеко, чтобы слышать слова, которыми они обменялись; но, по-видимому, разговор был мирный, ибо Альбер и поселянка удалились рука об руку. Франц еще с минуту смотрел им вслед, но скоро потерял их из виду.
Внезапно раздались звуки колокола, возвещавшего конец карнавала, и в ту же секунду, как по мановению волшебного жезла, все мокколетти разом погасли, словно могучий ветер единым дыханием задул их.
Франц очутился в полной темноте. Вместе с огнями исчез и шум, словно тот же порыв ветра унес с собой и крики. Слышен был только стук экипажей, развозивших маски по домам; видны были только редкие огоньки, светившиеся в окнах.
Карнавал кончился.
XVI. Катакомбы Сан-Себастьяно
Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал такого резкого перехода от веселья к унынию; словно некий дух ночи одним мановением превратил весь Рим в огромную могилу. Тьма усугублялась тем, что ущербная луна еще не появлялась на небе; поэтому улицы, по которым проезжал Франц, были погружены в непроницаемый мрак. Впрочем, путь был не длинный; минут через десять его коляска, или, вернее, коляска графа, остановилась у дверей гостиницы.
Обед ждал его. Так как Альбер предупредил, что не рассчитывает рано вернуться, то Франц сел за стол один.
Маэстро Пастрини, привыкший видеть их всегда вместе, осведомился, почему Альбер не обедает. Франц отвечал, что Альбер приглашен в гости. Внезапное исчезновение огней, тьма, сменившая яркий свет, тишина, поглотившая шум, – все это вызвало в душе Франца безотчетную грусть, не лишенную смутной тревоги. Обед прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость хозяина, то и дело заходившего узнать, всем ли доволен его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней минуты. Поэтому он велел подать экипаж только к одиннадцати часам и попросил маэстро Пастрини немедленно дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу. К одиннадцати часам Альбер не вернулся. Франц оделся и уехал, предупредив хозяина, что проведет ночь на балу у герцога Браччано.
Дом герцога Браччано – один из приятнейших в Риме; супруга его, принадлежащая к старинному роду Колона, – очаровательная хозяйка, и их приемы получили европейскую известность. Франц и Альбер оба приехали в Рим с рекомендательными письмами к герцогу; поэтому первый вопрос, заданный им Францу, касался его спутника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту, когда гасили мокколетти, и что он потерял его из виду близ виа Мачелло.
– Так он до сих пор не вернулся домой? – спросил герцог.
– Я ждал его до одиннадцати часов, – ответил Франц.
– А вы знаете, куда он пошел?
– Точно не знаю; кажется, чуть ли не на свидание.
– Черт возьми! – сказал герцог. – Сегодня плохой день или, лучше сказать, плохая ночь для поздних прогулок; не правда ли, графиня?
Последние слова относились к графине Г., которая только что появилась под руку с г-ном Торлониа, братом герцога.
– Я нахожу, напротив, что это чудесная ночь, – отвечала графиня, – и те, кто здесь собрался, будут жалеть лишь о том, что она пролетела слишком быстро.
– Я и не говорю о тех, кто здесь собрался, – возразил, улыбаясь, герцог. – Единственная опасность, которая им грозит, это влюбиться в вас, если это мужчина, а если это женщина, то заболеть от зависти к вашей красоте; я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима.
– Да кто же в этот час бродит по улицам, если только он не отправляется на бал? – спросила графиня.
– Наш друг Альбер де Морсер, с которым я расстался в семь часов, – сказал Франц. – Он преследовал свою незнакомку, и я его с тех пор не видел.
– Как? И вы не знаете, где он?
– Не имею ни малейшего понятия.
– У него есть оружие?
– Он в костюме паяца.
– Вам не следовало его пускать, – сказал герцог, – ведь вы знаете Рим лучше его.
– Как бы не так! Легче было бы остановить третий номер, который выиграл сегодня скачку, – отвечал Франц. – И потом, что же может с ним случиться?
– Кто знает? Ночь очень темная, а от виа Мачелло до Тибра рукой подать.
У Франца мороз пробежал по коже, когда он увидел, что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу.
– Я предупредил в гостинице, что еду к вам, – сказал Франц, – и мне должны сообщить, как только он вернется.
– Да вот, – сказал герцог, – вас, кажется, ищет мой лакей.
Герцог не ошибся, увидев Франца, лакей подошел к нему.
– Ваша милость, – сказал он, – хозяин гостиницы «Лондон» прислал сказать вам, что вас дожидается какой-то человек с письмом от виконта де Морсера.
– С письмом от виконта! – вскричал Франц.
– Точно так.
– А что за человек?
– Не знаю.
– Почему он сам не принес сюда письмо?
– Посланный не дал мне никаких объяснений.
– А где посланный?
– Он ушел, когда увидел, что я отправился в залу доложить вам.
– Боже мой! – сказала графиня Францу. – Ступайте скорее. Бедняга! С ним, может быть, случилось несчастье.
– Бегу, – сказал Франц.
– Вы вернетесь сюда и все расскажете? – спросила графиня.
– Да, если ничего серьезного не произошло; в противном случае я ни за что не могу поручиться.
– Во всяком случае, будьте осторожны, – сказала графиня.
– О, не беспокойтесь.
Франц взял шляпу и поспешно вышел. Приехав на бал, он отослал экипаж и велел кучеру вернуться в два часа ночи; но, к счастью, дворец герцога, выходящий одной стороной на Корсо, а другой на площадь Св. Апостолов, находился не более как в десяти минутах ходьбы от гостиницы «Лондон». Подойдя к дверям, Франц увидел человека, стоявшего посреди улицы; он ни минуты не сомневался, что это посланный Альбера. Человек был закутан в широкий плащ. Франц направился к нему, но, к немалому его удивлению, тот первый заговорил с ним.
– Что угодно от меня вашей милости? – спросил он, отступая на шаг.
– Это вы принесли мне письмо от виконта де Морсера? – спросил Франц.
– Ваша милость живет в гостинице Пастрини?
– Да.
– Ваша милость путешествует вместе с виконтом?
– Да.
– Как зовут вашу милость?
– Барон Франц д’Эпине.
– Значит, письмо адресовано именно вашей милости.
– Нужен ответ? – спросил Франц, беря у него из рук письмо.
– Да, по крайней мере ваш друг надеется на ответ.
– Так поднимитесь ко мне.
– Нет, я лучше подожду здесь, – усмехнувшись, сказал посланный.
– Почему?
– Ваша милость поймет, когда прочтет письмо.
– Так я найду вас здесь?
– Непременно.
Франц вошел в гостиницу; на лестнице он встретился с маэстро Пастрини.
– Ну что? – спросил его тот.
– Что именно? – сказал Франц.
– Вы видели человека, который пришел к вам по поручению вашего друга? – спросил хозяин.
– Да, видел, – отвечал Франц, – он передал мне письмо. Велите, пожалуйста, подать огня.
Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу показалось, что у маэстро Пастрини весьма растерянный вид, и это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо Альбера; как только слуга зажег свечу, он поспешно развернул листок бумаги. Письмо было написано рукой Альбера, под ним стояло его имя. Франц прочел его дважды – настолько неожиданно было его содержание. Вот оно от слова до слова:
«Дорогой друг, тотчас же по получении этого письма возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящике письменного стола, мой аккредитив, присоедините к нему и свой, если моего будет недостаточно… Бегите к Торлониа, возьмите у него четыре тысячи пиастров и вручите их подателю сего. Необходимо, чтобы эта сумма была мне доставлена без промедления.
Ограничиваюсь этим, ибо полагаюсь на вас так же, как вы могли бы положиться на меня.
Ваш друг
P.S. I believe now in Italian bandits.[35]
Альбер де Морсер».
Под этими строками другим почерком было написано по-итальянски:
«Se alle sei della mattina le quattro mila piastre non sono nelle mie mani, alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.
Luigi Vampa».[36]
Вторая подпись все объяснила Францу, и он понял нежелание посланного подняться к нему в комнату: он считал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника, в существование которого упорно не хотел верить.
Нельзя было терять ни минуты. Франц бросился к письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажник, а в бумажнике аккредитив; аккредитив был на шесть тысяч пиастров, но из них Альбер уже издержал три тысячи. Что касается Франца, то у него вовсе не было аккредитива; так как он жил во Флоренции и приехал в Рим всего лишь на неделю, то он взял с собой только сотню луидоров, и из этой сотни у него оставалось не более половины. Таким образом, не хватало семи или восьми сотен пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в таких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться на любезность г-на Торлониа.
Он хотел уже, не медля ни минуты, возвратиться во дворец Браччано, как вдруг его осенила блестящая мысль. Он вспомнил о графе Монте-Кристо. Франц протянул руку к звонку, чтобы послать за маэстро Пастрини, как вдруг дверь отворилась, и он сам появился на пороге.
– Синьор Пастрини, – быстро спросил он, – как вы думаете, граф у себя?
– Да, ваша милость, он только что вернулся.
– Он не успел еще лечь?
– Не думаю.
– Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для меня разрешения явиться к нему.
Маэстро Пастрини поспешил исполнить поручение; через пять минут он вернулся.
– Граф ждет вашу милость, – сказал он.
Франц пересек площадку, и лакей ввел его к графу. Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще не видел и вдоль стен которого стояли диваны. Граф встал ему навстречу.
– Какой счастливый случай привел вас ко мне? – сказал он. – Может быть, вы поужинаете со мной? Это было бы, право, очень мило с вашей стороны.
– Нет, я пришел по важному делу.
– По делу? – сказал граф, взглянув на Франца своим проницательным взглядом. – По какому же?
– Мы здесь одни?
Граф подошел к двери и вернулся.
– Совершенно одни.
Франц протянул ему письмо Альбера.
– Прочтите, – сказал он.
Граф прочел письмо.
– Д-да! – сказал он.
– Прочли вы приписку?
– Да, – сказал он, – вижу:
«Se alle sei della mattina le quattro mila piastre non sono nelle mie mani, alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.
Luigi Vampa».
– Что вы на это скажете? – спросил Франц.
– Вы располагаете этой суммой?
– Да, не хватает только восьмисот пиастров.
Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик, полный золота.
– Надеюсь, – сказал он Францу, – вы не обидите меня и не обратитесь ни к кому другому?
– Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам, – отвечал Франц.
– И я благодарю вас за это. Берите.
И он указал Францу на ящик.
– А разве необходимо посылать Луиджи Вампа эту сумму? – спросил Франц, в свою очередь, пристально глядя на графа.
– Еще бы! – сказал тот. – Судите сами, приписка достаточно ясна.
– Мне кажется, что, если бы вы захотели, вы нашли бы более простой способ, – сказал Франц.
– Какой? – удивленно спросил граф.
– Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Вампа, я уверен, что он не отказал бы вам и освободил Альбера.
– Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника?
– Разве вы не оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются?
– Какую?
– Разве вы не спасли жизнь Пеппино?
– А-а! – произнес граф. – Кто вам сказал?
– Не все ли равно? Я это знаю.
Граф помолчал, нахмурив брови.
– А если я поеду к Луиджи, вы поедете со мной?
– Если мое общество не будет вам неприятно.
– Что же, пусть будет так; погода прекрасная, прогулка в окрестностях Рима доставит нам только удовольствие.
– Оружие надо захватить?
– Зачем?
– Деньги?
– Не нужно. Где человек, который принес письмо?
– На улице.
– Он ждет ответа?
– Да.
– Надо все-таки узнать, куда мы едем; я позову его.
– Бесполезно: он не захотел войти.
– К вам, может быть, но ко мне он придет.
Граф подошел к окну кабинета, выходившему на улицу, и особенным образом свистнул. Человек в плаще отделился от стены и вышел на середину улицы.
– Salite![37] – сказал граф тоном, каким отдают приказание слуге.
Посланный немедленно, не колеблясь, даже торопливо повиновался и, поднявшись на крыльцо, вошел в гостиницу. Пять секунд спустя он стоял у дверей кабинета.
– А, это ты, Пеппино? – сказал граф.
Вместо ответа Пеппино бросился на колени, схватил руку графа и несколько раз поцеловал ее.
– Вот как, – сказал граф, – ты еще не забыл, что я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая неделя.
– Нет, ваша светлость, я никогда не забуду, – отвечал Пеппино голосом, в котором звучала глубокая благодарность.
– Никогда? Это очень долго! Но хорошо уже то, что ты так думаешь. Встань и отвечай.
Пеппино с беспокойством взглянул на Франца.
– Ты можешь говорить при его милости, – сказал граф, – это мой друг. Вы мне разрешите называть вас этим именем? – прибавил граф по-французски, обращаясь к Францу. – Это необходимо, чтобы внушить ему доверие.
– Можете говорить при мне, – сказал Франц, – я друг графа.
– Хорошо, – отвечал Пеппино, обращаясь к графу, – пусть ваша светлость спрашивает, я буду отвечать.
– Каким образом виконт Альбер попал в руки Луиджи?
– Ваша светлость, коляска француза несколько раз встречалась с той, в которой сидела Тереза.
– Подруга атамана?
– Да. Француз начал любезничать; Тереза в шутку отвечала ему; француз бросал ей букеты, она тоже бросала ему цветы; разумеется, с дозволения атамана, который сидел в той же коляске.
– Как? – воскликнул Франц. – Луиджи Вампа сидел в коляске поселянок?
– Он был наряжен кучером и правил, – отвечал Пеппино.
– Дальше? – сказал граф.
– А дальше француз снял маску; Тереза с дозволения атамана тоже открыла лицо; француз попросил свидания, Тереза назначила время и место; только вместо Терезы на паперти церкви Сан-Джакомо ждал Беппо.
– Как? – прервал опять Франц. – Эта поселянка, которая вырвала у него мокколетто?..
– Это был пятнадцатилетний мальчик, – отвечал Пеппино. – Но вашему другу нечего стыдиться, что он попался. Он не первый, кого надул Беппо.
– И Беппо увел его из города? – спросил граф.
– Да. В конце виа Мачелло ждала карета; Беппо сел и пригласил француза с собой; тот не заставил просить себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел рядом. Тут Беппо сказал ему, что повезет его на виллу в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть на край света. Кучер поехал на виа ди-Рипетта, миновал ворота Святого Павла, но когда они очутились в поле, француз стал уже слишком вольничать, и Беппо приставил ему к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обернулся и сделал то же самое. В то же время четверо наших, прятавшихся на берегу Альмо, подбежали к карете. Француз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко придушил Беппо; но что можно сделать против пятерых вооруженных людей? Оставалось только сдаться. Его вытащили из кареты, довели до берега речонки и проводили к Терезе и Луиджи, которые ждали его в катакомбах Сан-Себастьяно.
– Ну что же, – сказал граф Францу, – по-моему, эта история стоит всякой другой. Что вы скажете? Вы ведь знаток в этом деле?
– Скажу, что посмеялся бы от души, – отвечал Франц, – если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не с бедным Альбером.
– Да, если бы вы меня не застали, то это любовное похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого; но успокойтесь, он отделается страхом.
– Так поедем за ним? – спросил Франц.
– Непременно! Тем более что он находится в очень живописном месте. Знаете вы катакомбы Сан-Себастьяно?
– Нет, я никогда не спускался туда, но давно собираюсь это сделать.
– Вот как раз подходящий случай, лучшего и желать нельзя. Ваш экипаж внизу?
– Нет.
– Это не важно; у меня всегда экипаж наготове, и днем и ночью.
– И лошади запряжены?
– Да. Надо вам сказать, я человек непоседливый; иногда, встав из-за стола или посреди ночи, я вдруг решаю ехать куда-нибудь на край света, и еду.
Граф позвонил один раз; в комнату вошел камердинер.
– Велите вывезти экипаж из сарая, – сказал он, – и выньте пистолеты оттуда; кучера не будите: нас повезет Али.
Через минуту послышался стук экипажа, поданного к крыльцу. Граф поглядел на часы.
– Половина первого, – сказал он. – Мы могли бы выехать в пять часов утра и все-таки поспели бы вовремя; но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь, поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы все еще склонны ехать со мной?
– Больше, чем когда-либо.
– Так едем.
Франц и граф вышли из комнаты. Пеппино последовал за ними.
У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Франц узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо.
Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой, Пеппино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопом.
Али, по-видимому, заранее получил распоряжения, потому что он поехал по Корсо, пересек Кампо-Ваччино, поднялся по Страда-Сан-Грегорио и остановился у ворот Сан-Себастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи; решетку тотчас подняли, сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше.
Они ехали по древней Аппиевой дороге, между двумя рядами гробниц. Францу временами казалось, что в неверном свете восходящей луны от развалин отделяется фигура часового, но, по знаку Пеппино, фигура тотчас же снова исчезала в темноте.
Немного не доезжая цирка Каракаллы карета остановилась. Пеппино отворил дверцу, граф и Франц вышли.
– Через десять минут мы будем на месте, – сказал граф своему спутнику.
Потом он отозвал в сторону Пеппино, шепотом отдал ему какое-то приказание, и Пеппино, вынув из ящика кареты факел, удалился.
Прошло еще пять минут, Франц видел, как Пеппино пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой римской равнине; потом он исчез в высокой красноватой траве, напоминающей всклокоченную гриву гигантского льва.
– Последуем за ним, – сказал граф.
Они двинулись по той же тропинке; пройдя шагов сто по отлогому склону, они очутились в маленькой долине. Вскоре они заметили двух человек, переговаривавшихся в темноте.
– Идти дальше, – спросил Франц, – или, может быть, надо подождать?
– Идем, идем; Пеппино, вероятно, предупредил часового.
И в самом деле, один из разговаривавших оказался Пеппино, другой – разбойник, стоявший на страже.
Граф и Франц подошли к ним, разбойник поклонился.
– Ваша светлость, – сказал Пеппино, – угодно вам идти за мной? Вход в катакомбы в двух шагах отсюда.
– Хорошо, – сказал граф, – ступай вперед.
Вскоре за кустами, среди камней, показалось отверстие, в которое с трудом мог пролезть человек.
Пеппино первый полез в расщелину; уже через несколько шагов подземный ход стал расширяться. Тогда он остановился, зажег факел и обернулся.
Граф первый проник в это подобие отдушины, Франц последовал за ним.
Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась; однако Франц и граф все еще были вынуждены идти согнувшись и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще шагов полтораста, после чего были остановлены окликом: «Кто идет?»
И при свете факела они увидели, как в темноте блеснуло дуло карабина.
– Друг, – отвечал Пеппино.
Он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь.
Часовой стоял вверху лестницы ступеней в двадцать; Франц и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились пять углублений; в каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. Они поняли, что наконец вступили в катакомбы.
В одно из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света.
Граф положил руку на плечо Франца.
– Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе? – спросил он.
– Очень даже, – отвечал Франц.
– Так идите за мной… Пеппино, потуши факел.
Пеппино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме; только впереди, шагах в пятидесяти от них, по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пеппино погасил факел.
Они молча пошли вперед, причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу, по мере того как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями.
Перед ними показались три арки, средняя из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц, от большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались четыре камня, некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их.
Одинокая лампа, поставленная на цоколь колонны, освещала слабым, колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей.
Облокотившись на цоколь, спиной к аркам сидел человек и читал.
Это был атаман шайки Луиджи Вампа.
Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи, или сидели, прислонясь к подобию каменной скамьи, тянувшейся вдоль стен этого склепа, человек двадцать разбойников. У каждого был под рукой карабин.
В глубине, безмолвный и едва различимый, словно тень, часовой шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене, которое угадывалось только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще.
Граф дал Францу вволю налюбоваться этой живописной картиной. Потом приложил палец к губам, и, поднявшись по трем ступенькам, которые вели в склеп, вошел через среднюю арку и приблизился к Луиджи, который был так погружен в чтение, что даже не слышал его шагов.
– Кто идет? – крикнул часовой, увидев в свете лампы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана.
При этом возгласе Вампа вскочил, выхватывая из-за пояса пистолет. В один миг все разбойники были на ногах, и двадцать карабинов прицелились в графа.
– Однако, – сказал тот спокойным голосом, причем ни один мускул на его лице не дрогнул, – дорогой Вампа, не слишком ли много церемоний, чтобы встретить друга?
– Долой оружие! – скомандовал атаман, властным движением поднимая одну руку, а другой почтительно снимая шляпу.
Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повелевал всеми действующими лицами этой сцены, он сказал:
– Простите, граф, но я никак не ожидал, что вы удостоите меня своим посещением, и поэтому не узнал вас.
– По-видимому, у вас вообще короткая память, Вампа, и вы не только не помните лица людей, но забываете и условия, заключенные с ними.
– Какие же условия я забыл, граф? – спросил разбойник тоном человека, готового немедленно загладить свою вину.
– Разве мы не условились, – сказал граф, – что не только я, но и все мои друзья будут для вас неприкосновенны?
– Чем же я нарушил условие, ваша милость?
– Вы сегодня похитили и доставили сюда виконта Альбера де Морсера; а этот молодой человек, – продолжал граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся, – из числа моих друзей; он живет в одной гостинице со мной, он целую неделю катался по Корсо в моей коляске, а между тем, повторяю, вы его похитили, доставили сюда и, – прибавил граф, вынимая письмо из кармана, – потребовали с него выкуп, точно это первый встречный!
– Почему мне не сказали об этом? – проговорил атаман, обращаясь к своим людям, попятившимся перед его взглядом. – Почему вы заставили меня нарушить слово, данное такому человеку, как граф, который держит в своих руках жизнь каждого из нас? Клянусь кровью Христовой! Если бы я думал, что кто-нибудь из вас знал о том, что этот молодой человек друг его милости, я собственной рукой застрелил бы его!
– Вот видите, – сказал граф, обращаясь в ту сторону, где стоял Франц, – я же вам говорил, что это недоразумение.
– Разве вы не один? – спросил с тревогой Вампа.
– Со мною тот, кому было адресовано это письмо. Я хотел доказать ему, что Луиджи Вампа никогда не изменяет своему слову. Подойдите, барон, – сказал он Францу, – Луиджи сам скажет вам, что он в отчаянии от своей ошибки.
Франц приблизился; атаман сделал несколько шагов ему навстречу.
– Прошу вас быть моим гостем, ваша милость, – сказал он. – Вы слышите, что сказал граф и что я ему ответил; я могу только добавить, что я охотно отдал бы четыре тысячи пиастров, цену выкупа, чтобы этого не случилось.
– Но где же пленник? – спросил Франц, осматриваясь с беспокойством. – Я не вижу его.
– С ним, надеюсь, ничего не случилось? – спросил граф, нахмурив брови.
– Пленник там, – отвечал Вампа, указывая на углубление, у которого шагал часовой, – и я сам пойду объявить ему, что он свободен.
Атаман направился к темнице Альбера. Франц и граф последовали за ним.
– Что делает пленник? – спросил Вампа часового.
– Право, не знаю, начальник, – отвечал ему тот, – уже больше часу, как он не шелохнулся.
– Пожалуйте, ваша милость, – сказал Вампа.
Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялись по ступенькам. Вампа отодвинул засов и отпер дверь.
Тогда, при свете лампы, похожей на ту, которая освещала склеп, они увидели Альбера. Завернувшись в плащ, уступленный ему одним из разбойников, он спал безмятежным сном.
– Однако! – сказал граф с улыбкой, свойственной ему одному. – Недурно для человека, которого должны были расстрелять в семь часов утра.
Вампа не без восхищения смотрел на спящего Альбера; было видно, что мужество молодого человека произвело на него впечатление.
– Вы сказали правду, граф, – проговорил он, – этот человек, без сомнения, ваш друг.
Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо.
– Ваша милость! – сказал он. – Не угодно ли вам проснуться?
Альбер потянулся, протер глаза и открыл их.
– А, это вы, атаман? – сказал он. – Черт подери, зачем вы разбудили меня; я видел чудесный сон; мне снилось, что я танцую галоп у Торлониа с графиней Г.
Он вынул из кармана часы, которые оставил при себе, чтобы самому следить за ходом времени.
– Половина второго, – сказал он. – Чего ради вы будите меня в такой час?
– Чтобы сказать вашей милости, что вы свободны.
– Дорогой мой, – возразил Альбер с невозмутимым хладнокровием, – на будущее время запомните изречение Наполеона Великого: «Будите меня только в случае дурных вестей». Если бы вы меня не разбудили, я дотанцевал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен… Так за меня уже внесли выкуп?
– Нет, ваша милость.
– Так как же я свободен?
– Человек, которому я ни в чем не могу отказать, приехал за вами.
– Сюда?
– Сюда.
– Честное слово, это весьма любезный человек!
Альбер посмотрел кругом и увидел Франца.
– Как! – обратился он к нему. – Это вы, милый Франц, проявили такую преданность?
– Не я, а наш сосед, граф Монте-Кристо, – отвечал Франц.
– Ах, граф, – весело сказал Альбер, поправляя галстук и манжеты. – Вы поистине неоценимый человек, и я навеки остаюсь вашим должником, во-первых, за ваш экипаж, а во-вторых, за мое освобождение! – И он протянул руку графу.
Тот вздрогнул, но все же подал ему свою. Луиджи Вампа с изумлением смотрел на эту сцену; он привык видеть пленников, дрожащих перед ним: и вот нашелся один, чье шутливое настроение духа ничуть не изменилось; что касается Франца, то он был в восторге: Альбер, даже будучи в руках разбойников, не уронил национальной чести.
– Дорогой Альбер, – сказал он, – если вы поторопитесь, то мы еще успеем закончить вечер у Торлониа; вы продолжите прерванный галоп и простите синьора Луиджи, который, право же, во всем этом деле вел себя как нельзя благороднее.
– Вы правы, – отвечал Альбер, – мы поспеем туда к двум часам. Синьор Луиджи, – продолжал он, – какие еще формальности я должен исполнить, прежде чем проститься с вашей милостью?
– Никаких, – отвечал разбойник, – вы свободны, как ветер.
– В таком случае желаю вам счастливой и веселой жизни; идемте, господа!
И Альбер, сопутствуемый Францем и графом, пересек большую квадратную комнату; все разбойники стояли с непокрытой головой.
– Пеппино! – сказал атаман. – Подай мне факел.
– Что вы хотите сделать? – спросил граф.
– Хочу проводить вас, – отвечал атаман. – Это наименьшая почесть, какую я могу оказать вашей милости.
И, взяв зажженный факел из рук Пеппино, он пошел впереди своих гостей не как слуга, исполняющий обязанность, но как король, за которым следуют послы. Дойдя до выхода, он поклонился.
– Граф, – сказал он, – я еще раз приношу вам свои извинения; надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то, что произошло.
– Нет, дорогой Вампа, – сказал граф, – вы умеете так любезно исправлять свои ошибки, что хочется поблагодарить вас за то, что вы их совершили.
– Господа, – продолжал разбойник, обращаясь к молодым людям, – может быть, мое приглашение покажется вам мало соблазнительным, но если вам когда-нибудь вздумается еще раз навестить меня, то, где бы я ни был, я буду рад вас видеть.
Франц и Альбер поклонились. Граф вышел первый. За ним Альбер; Франц медлил.
– Вашей милости угодно меня о чем-нибудь спросить? – сказал, улыбаясь, Вампа.
– Признаюсь, что да, – отвечал Франц. – Мне хотелось бы знать, какую книгу вы читали с таким вниманием, когда мы вошли?
– «Записки Цезаря», – сказал разбойник, – это моя любимая книга.
– Что же вы, Франц? – спросил Альбер.
– Иду, иду, – ответил Франц.
И он, в свою очередь, вылез из расщелины.
Они прошли несколько шагов.
– Простите, – сказал Альбер, возвращаясь обратно, – вы позволите?
И он закурил свою сигару от факела Луиджи.
– А теперь, граф, – сказал он, – не будем терять времени. Мне очень хочется провести остаток ночи у герцога Браччано.
Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили. Граф что-то сказал Али по-арабски, и лошади понеслись во весь опор.
Ровно в два часа друзья входили в танцевальную залу.
Их появление вызвало сенсацию; но так как они были вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла.
– Графиня, – сказал виконт де Морсер, подходя к графине Г., – вчера вы были так добры, что обещали мне галоп; я немного поздно напоминаю о вашем милом обещании, но мой друг, правдивость которого вам известна, подтвердит вам, что это не моя вина.
И так как в эту минуту заиграла музыка, то Альбер, обхватив талию графини, закружился с нею среди танцующих пар.
Между тем Франц размышлял о том, как странно вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей пришлось подать руку Альберу.
XVII. Уговор
На другой день, встав с постели, Альбер первым делом предложил Францу нанести визит графу; он уже благодарил его накануне, но понимал, что услуга, оказанная ему графом, требует двойного изъявления благодарности.
Франц, который чувствовал к графу влечение, смешанное со страхом, отправился вместе с другом, их ввели в гостиную; минут через пять появился граф.
– Сударь, – сказал Альбер, подходя к нему, – разрешите мне повторить сегодня то, что я недостаточно внятно высказал вчера; я никогда не забуду, при каких обстоятельствах вы пришли мне на помощь, и всегда буду помнить, что обязан вам жизнью или почти жизнью.
– Дорогой мой сосед, – смеясь, отвечал граф, – вы преувеличиваете мою услугу; я вам сберег тысяч двадцать франков, только и всего; вы видите, что об этом не стоит говорить. Но позвольте и мне выразить вам свое восхищение: вы держались с очаровательной непринужденностью.
– Что мне оставалось делать, граф? – сказал Альбер. – Я вообразил, что у меня вышла ссора, которая привела к дуэли, и мне хотелось показать этим разбойникам, что хотя во всех странах мира дерутся на дуэли, но только одни французы дерутся смеясь. Однако это ничуть не умаляет моей признательности к вам, и я пришел спросить вас, не могу ли я сам или через моих друзей, благодаря моим связям, быть вам чем-нибудь полезен. Отец мой, граф де Морсер, родом испанец, пользуется большим влиянием и во Франции, и в Испании; вы можете быть уверены, что я и все, кто меня любит, в полном вашем распоряжении.
– Должен признаться, господин де Морсер, – отвечал граф, – что я ждал от вас такого предложения и принимаю его от всего сердца. Я уже и сам хотел просить вас о большом одолжении.
– О каком?
– Я никогда не бывал в Париже; я совсем не знаю Парижа…
– Неужели? – воскликнул Альбер. – Как вы могли жить, не видав Парижа? Это невероятно!
– А между тем это так; но, как и вы, я считаю, что мне пора познакомиться со столицей просвещенного мира. Я вам скажу больше: может быть, я уже давно предпринял бы это путешествие, если бы знал кого-нибудь, кто мог бы ввести меня в парижский свет, где у меня нет никаких связей.
– Такой человек, как вы! – воскликнул Альбер.
– Вы очень любезны; но так как я не знаю за собой других достоинств, кроме возможности соперничать в количестве миллионов с господином Агуадо или с господином Ротшильдом, и еду в Париж не для того, чтобы играть на бирже, то именно это обстоятельство меня и удерживало. Но ваше предложение меняет дело. Возьмете ли вы на себя, дорогой господин де Морсер (при этих словах странная улыбка промелькнула на губах графа), если я приеду во Францию, открыть мне двери общества, которому я буду столь же чужд, как гурон или кохинхинец?
– О, что до этого, граф, то с величайшей радостью и от всего сердца! – отвечал Альбер. – И тем охотнее (мой милый Франц, прошу вас не подымать меня на смех), что меня вызывают в Париж письмом, полученным мною не далее как сегодня утром, где говорится об очень хорошей для меня партии в прекрасной семье, имеющей наилучшие связи в парижском обществе.
– Так вы женитесь? – спросил, улыбаясь, Франц.
– По-видимому. Так что, когда вы вернетесь в Париж, то найдете меня женатым и, быть может, отцом семейства. При моей врожденной солидности мне это будет очень к лицу. Во всяком случае, граф, повторяю вам: я и все мои близкие готовы служить вам и телом и душой.
– Я согласен, – сказал граф, – и смею вас уверить, что мне недоставало только этого случая, чтобы привести в исполнение кое-какие планы, которые я давно уже обдумываю.
Франц не сомневался ни минуты, что это те самые планы, на которые граф намекал в пещере Монте-Кристо, и он внимательно взглянул на графа, пытаясь прочесть на его лице хоть что-нибудь относительно этих планов, побуждавших его ехать в Париж; но нелегко было проникнуть в мысли этого человека, особенно когда он скрывал их за учтивой улыбкой.
– Но, может быть, граф, – сказал Альбер, восхищенный тем, что ему предстоит ввести в парижское общество такого оригинала, как Монте-Кристо, – может быть, ваше намерение вроде тех, которые приходят в голову, когда путешествуешь, и – построенные на песке – уносятся первым порывом ветра?
– Нет, уверяю вас, это не так, – сказал граф, – я в самом деле хочу побывать в Париже, мне даже необходимо это сделать.
– И когда же?
– Когда вы сами там будете?
– Я? – сказал Альбер. – Да недели через две, через три, самое большее, – сколько потребуется на дорогу.
– Ну что ж, – сказал граф, – даю вам три месяца сроку; вы видите, я не скуплюсь.
– И через три месяца вы будете у меня? – радостно воскликнул Альбер.
– Хотите, назначим точно день и час свидания? – сказал граф. – Предупреждаю вас, что я пунктуален до тошноты.
– День и час! – сказал Альбер. – Великолепно!
– Сейчас посмотрим.
Граф протянул руку к календарю, висевшему около зеркала.
– Сегодня у нас двадцать первое февраля, – сказал он и посмотрел на часы, – теперь половина одиннадцатого. Согласны ли вы ждать меня двадцать первого мая в половине одиннадцатого утра?
– Отлично! – воскликнул Альбер. – Завтрак будет на столе.
– А где вы живете?
– Улица Эльдер, двадцать семь.
– Вы живете один, на холостую ногу? Я вас не стесню?
– Я живу в доме моего отца, но в отдельном флигеле, во дворе.
– Прекрасно.
Граф взял памятную книжку и записал: «Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра».
– А теперь, – сказал он, пряча книжку в карман, – не беспокойтесь, я буду точен, как стрелки ваших часов.
– Я вас увижу еще до моего отъезда? – спросил Альбер.
– Это зависит от того, когда вы уезжаете.
– Я еду завтра, в пять часов вечера.
– В таком случае я с вами прощусь. Мне необходимо побывать в Неаполе, и я вернусь не раньше субботы вечером или воскресенья утром. А вы, – обратился он к Францу, – вы тоже едете, барон?
– Да.
– Во Францию?
– Нет, в Венецию. Я останусь в Италии еще год или два.
– Так мы не увидимся в Париже?
– Боюсь, что буду лишен этой чести.
– Ну, господа, в таком случае счастливого пути, – сказал граф, протягивая обе руки Францу и Альберу.
В первый раз дотрагивался Франц до руки этого человека; он невольно вздрогнул; она была холодна, как рука мертвеца.
– Значит, решено, – сказал Альбер, – вы дали слово. Улица Эльдер, двадцать семь, двадцать первого мая, в половине одиннадцатого утра.
– Двадцать первого мая, в половине одиннадцатого утра, улица Эльдер, двадцать семь, – повторил граф.
Вслед за тем молодые люди поклонились и вышли.
– Что с вами? – спросил Альбер Франца, возвратившись в свою комнату. – У вас такой озабоченный вид.
– Да, – сказал Франц, – должен сознаться, что граф – престранный человек, и меня беспокоит это свидание, которое он вам назначил в Париже.
– Беспокоит вас?.. Это свидание?.. Да вы с ума сошли! – воскликнул Альбер.
– Что поделаешь? – сказал Франц. – Может быть, я сошел с ума, но это так.
– Послушайте, – продолжал Альбер, – я рад, что мне представился случай высказать вам свое мнение; я давно замечаю в вас какую-то неприязнь к графу, а он, напротив, всегда был с нами необыкновенно любезен. Вы что-нибудь имеете против него?
– Может быть.
– Вы встречались с ним раньше?
– Вот именно.
– Где?
– Вы обещаете мне никому ни слова не говорить о том, что я вам расскажу?
– Обещаю.
– Честное слово?
– Честное слово.
– Хорошо. Так слушайте.
И Франц рассказал Альберу о своей поездке на остров Монте-Кристо и о том, как он встретил там шайку контрабандистов и среди них двух корсиканских разбойников. Он подробно рассказал, какое сказочное гостеприимство оказал ему граф в своей пещере из «Тысячи и одной ночи»; рассказал об ужине, о гашише, о статуях, о том, что было во сне и наяву, и как наутро от всего этого осталась только маленькая яхта на горизонте, уходившая к Порто-Веккио. Потом он перешел к Риму, к ночи в Колизее, к подслушанному им разговору между графом и Луиджи, во время которого граф обещал исхлопотать помилование Пеппино, что он и исполнил, как видели наши читатели.
Наконец, он дошел до приключения предыдущей ночи, рассказал, в каком затруднительном положении он очутился, когда увидел, что ему недостает до суммы выкупа восьмисот пиастров, и как ему пришло в голову обратиться к графу, что и привело к столь счастливой и эффектной развязке. Альбер слушал Франца, весь обратившись в слух.
– Ну и что же? – сказал он, когда тот кончил. – Что же вы во всем этом видите предосудительного? Граф любит путешествовать, он богат и хочет иметь собственную яхту. Поезжайте в Портсмут или Саутгемптон и вы увидите, что гавань забита яхтами, принадлежащими богатым англичанам, разрешающим себе такую же роскошь. Чтобы всегда иметь пристанище, чтобы не питаться этой отвратительной снедью, которой мы отравляемся, я – вот уже четыре месяца, а вы – четыре года, чтобы не спать в мерзких постелях, где невозможно заснуть, он обставляет для себя квартиру на Монте-Кристо; обставив ее, он начинает опасаться, что тосканское правительство ее отнимет и его затраты пропадут даром; тогда он покупает остров и присваивает себе его имя. Дорогой мой, поройтесь в вашей памяти и скажите мне, разве мало ваших знакомых называют себя по имени местностей, которыми они никогда не владели?
– А корсиканские разбойники, принадлежащие к его свите? – сказал Франц.
– Что же тут удивительного? Вы отлично знаете, что корсиканские разбойники не грабители, а просто беглецы, которых родовая месть изгнала из родного города или родной деревни; в их обществе можно находиться без ущерба для своей чести. Что касается меня, то я заявляю, что если мне когда-нибудь придется побывать на Корсике, то раньше, чем представиться губернатору и префекту, я попрошу познакомить меня с разбойниками Коломбы, если только удастся разыскать их; я нахожу, что они обворожительны.
– А Вампа и его шайка? – возразил Франц. – Это уже настоящие разбойники, которые просто грабят; против этого, надеюсь, вы не станете спорить. Что вы скажете о влиянии графа на такого рода людей?
– Скажу, дорогой мой, что так как, по всей вероятности, этому влиянию я обязан жизнью, то мне не пристало быть слишком придирчивым. Поэтому я не намерен, подобно вам, вменять его графу в преступление, и вы уж разрешите мне простить нашего соседа за то, что он если и не спас мне жизнь – это, возможно, было бы преувеличением, – то, во всяком случае, сберег мне четыре тысячи пиастров; это на наши деньги составляет не более и не менее как двадцать четыре тысячи франков – в такую сумму меня во Франции едва ли бы оценили, что доказывает, – прибавил Альбер, смеясь, – что нет пророка в своем отечестве.
– Кстати, об отечестве: где отечество графа? Какой его родной язык? На какие средства он живет? Откуда взялись его несметные богатства? Какова была первая половина его таинственной, неведомой жизни, которая набросила на вторую половину мрачную тень мизантропии? Вот что на вашем месте я постарался бы узнать.
– Дорогой Франц, – отвечал Альбер, – когда вы получили мое письмо и увидели, что мы нуждаемся в графе, вы пошли и сказали ему: «Мой друг Альбер де Морсер в опасности; помогите мне выручить его». Так?
– Да.
– А спросил он у вас, кто такой Альбер де Морсер? Откуда он взял свое имя? Откуда взялось его состояние? На какие средства он живет? Где его отечество? Где он родился? Скажите, спрашивал он вас об этом?
– Нет; признаюсь, не спрашивал.
– Он просто взял и поехал. Он вырвал меня из рук синьора Луиджи, где, несмотря на мой, как вы говорите, чрезвычайно непринужденный вид, я чувствовал себя, по правде сказать, отвратительно. И вот когда за подобную услугу он просит меня сделать то, что делаешь изо дня в день для любого русского или итальянского князя, приезжающего в Париж, то есть просит меня познакомить его с парижским обществом, то вы хотели бы, чтобы я ему отказал в этом! Полноте, Франц, вы сошли с ума!
Нельзя не сознаться, что на этот раз против обыкновения логика была на стороне Альбера.
– Словом, делайте как хотите, дорогой виконт, – отвечал со вздохом Франц. – Все, что вы говорите, очень убедительно; и все же граф Монте-Кристо – странный человек.
– Граф Монте-Кристо – филантроп. Он не сказал вам, зачем он едет в Париж; так вот: для того чтобы стать соискателем Монтионовской премии; и если, чтобы получить ее, ему нужен мой голос и содействие того плюгавого человечка, от которого зависит ее присуждение, то первое я ему даю, а за второе ручаюсь. На этом, друг мой, мы закончим наш разговор и сядем за стол, а потом поедем в последний раз взглянуть на собор Святого Петра.
Программа Альбера была выполнена, а на следующий день, в пять часов пополудни, друзья расстались. Альбер де Морсер возвратился в Париж, а Франц д’Эпине уехал на две недели в Венецию.
Но Альбер так боялся, чтобы его гость не забыл о назначенном свидании, что, садясь в экипаж, вручил слуге для передачи графу Монте-Кристо визитную карточку, на которой под словами «Виконт Альбер де Морсер» приписал карандашом:
21 мая, в половине одиннадцатого утра,
улица Эльдер, 27.
Часть третья
I. Гости Альбера
В доме на улице Эльдер, где виконт де Морсер, еще в Риме, назначил свидание графу Монте-Кристо, утром 21 мая шли приготовления к тому, чтобы достойно принять гостей.
Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого двора, напротив здания, где помещались службы. Только два окна флигеля выходили на улицу; три других были обращены во двор, а остальные два – в сад.
Между двором и садом возвышалось просторное и пышное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенное в дурном вкусе наполеоновских времен.
Во всю ширину владения, вдоль улицы, тянулась ограда, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посредине большими воротами из золоченых копий, служившими для парадных выездов; маленькая калитка, рядом с помещением привратника, предназначалась для служащих, а также для хозяев, когда они выходили из дому или возвращались домой пешком.
В выборе флигеля, отведенного Альберу, угадывалась нежная предусмотрительность матери, не желающей разлучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой человек его возраста нуждается в полной свободе. С другой стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм виконта, любившего ту вольную праздную жизнь, которую ведут сыновья богатых родителей и которую ему золотили, как птице клетку.
Из окон, выходивших на улицу, Альбер мог наблюдать за внешним миром; ведь молодым людям необходимо, чтобы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие женщины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей. Затем, если предмет требовал более глубокого исследования, Альбер де Морсер мог выйти через дверь, которая соответствовала калитке рядом с помещением привратника и заслуживает особого упоминания.
Казалось, эту дверь забыли с того дня, как был выстроен дом, забросили навсегда: так она была незаметна и запылена; но ее замок и петли, заботливо смазанные, указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались. Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными входами и посмеивалась над привратником, ускользая от его бдительного ока и отворяясь, как пещера из «Тысячи и одной ночи», как волшебный «сезам» Али-Бабы, с помощью двух-трех каббалистических слов, произнесенных нежнейшим голоском, или условного стука, производимого самыми тоненькими пальчиками на свете.
В конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь, и служившего как бы прихожей, находились: справа – столовая Альбера, окнами во двор, а слева – его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и из сада, потому что они находились в нижнем этаже.
Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенная над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар.
Гостиная в нижнем этаже представляла собой нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков.
Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты.
Весь третий этаж занимала обширная студия – капище не то художника, не то денди. Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды Альбера: охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр, ибо Альбер одно время чувствовал если не влечение, то некоторую охоту к музыке; мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил себя художником; наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные палицы, ибо, следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альбер де Морсер с несравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно – фехтованием, боксом и владением палицей, и по очереди принимал в этой студии, предназначенной для всякого рода физических упражнений, Гризье, Кукса и Шарля Лебуше.
Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами Лукка делла Роббиа и тарелками Бернара де Палисси; кресла, в которых, быть может, сиживал Генрих IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французские лилии, увенчанные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых Лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии или расцветшие под руками калькуттских или чандернагорских женщин. Для чего здесь лежали эти ткани, никто бы не мог сказать: услаждая взоры, они дожидались назначения, неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотом и шелковистым блеском.
На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Гретри и Порпоры.
И везде по стенам, над дверьми, на потолке – шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, вороненые, с насечкой; гербарии, глыбы минералов, чучела птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз навсегда разинувшие клювы.
Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера.
Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского; здесь был и мэриленд, и порторико, и латакие. Рядом с ними, в ящиках из благовонного дерева, были разложены, по длине и достоинству, пуросы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости, после хорошего завтрака и чашки кофе, любят созерцать сквозь дым, причудливыми спиралями поднимающийся к потолку.
Без четверти десять вошел камердинер. Это был, если не считать пятнадцатилетнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакей отца.
Камердинера звали Жермен. Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем.
Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочитал.
– Как получены эти письма? – спросил он.
– Одно по почте, а другое принес камердинер госпожи Данглар.
– Велите передать госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу… Постойте… Потом вы пойдете к Розе; скажете ей, что после оперы я заеду к ней, и отнесете ей шесть бутылок лучшего вина, кипрского, хереса и малаги, и бочонок остендских устриц… Устрицы возьмите у Бореля и не забудьте сказать, что это для меня.
– В котором часу прикажете подавать завтрак?
– А который теперь час?
– Без четверти десять.
– Подайте ровно в половине одиннадцатого. Дебрэ, может быть, будет спешить в министерство… И, кроме того (Альбер заглянул в записную книжку), я так и назначил графу: двадцать первого мая, в половине одиннадцатого, и хоть я не слишком полагаюсь на его обещание, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала?
– Если господину виконту угодно, я пойду узнаю.
– Хорошо… попросите у нее погребец с ликерами, мой не полон. Скажите, что я буду у нее в три часа и прошу разрешения представить ей одного господина.
Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, поморщился, увидев, что дают оперу, а не балет, тщетно поискал среди объявлений новое средство для зубов, о котором ему говорили, отбросил одну за другой все три самые распространенные парижские газеты и, протяжно зевнув, пробормотал:
– Право, газеты становятся день ото дня скучнее.
В это время у ворот остановился легкий экипаж, и через минуту камердинер доложил о Люсьене Дебрэ. В комнату молча, без улыбки, с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек, белокурый, бледный, с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему, при содействии бровного и зигоматического мускула, время от времени удавалось вставлять в правый глаз.
– Здравствуйте, Люсьен! – сказал Альбер. – Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью! Я ожидал вас последним, а вы являетесь без пяти минут десять, тогда как завтрак назначен только в половине одиннадцатого! Чудеса! Уж не пал ли кабинет?
– Нет, дорогой, – отвечал молодой человек, опускаясь на диван, – можете быть спокойны, мы вечно шатаемся, но никогда не падаем, и я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы, не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочат наше положение.
– Ах да, ведь вы изгоняете дон Карлоса из Испании.
– Ничего подобного, не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в Бурже.
– В Бурже?
– Да. Ему не на что жаловаться, черт возьми! Бурж – столица Карла Седьмого. Как! Вы этого не знали? Со вчерашнего дня это известно всему Парижу, а третьего дня этот слух уже проник на биржу. Данглар (не понимаю, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами) сыграл на повышение и заработал миллион.
– А вы, по-видимому, новую ленточку? На вашей пряжке голубая полоска, которой прежде не было.
– Да, мне прислали звезду Карла Третьего, – небрежно сказал Дебрэ.
– Не притворяйтесь равнодушным, сознайтесь, что вам приятно ее получить.
– Не скрою, очень приятно. Как дополнение к туалету, звезда отлично идет к застегнутому фраку – это изящно.
– И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Рейхштадтского, – сказал, улыбаясь, Морсер.
– Вот почему я и явился к вам в такой ранний час, дорогой мой.
– То есть потому, что вы получили звезду Карла Третьего и вам хотелось сообщить мне эту приятную новость?
– Нет, не потому. Я провел всю ночь за отправкой писем: двадцать пять дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова; тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе, но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде карлистско-республиканского союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден, накормите меня; мне скучно, развлеките меня.
– Это мой долг хозяина, дорогой друг, – сказал Альбер, звонком вызывая камердинера, между тем как Люсьен кончиком своей тросточки с золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты, – Жермен, рюмку хереса и бисквитов. А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется; советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости.
– Да, как бы не так! Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается министерства внутренних дел, это по части министерства финансов; обратитесь к господину Юману, департамент косвенных налогов, коридор А, номер двадцать шесть.
– Вы меня поражаете своей осведомленностью, – сказал Альбер. – Но возьмите же сигару!
Люсьен закурил манилу от розовой свечи в позолоченном подсвечнике и откинулся на диван.
– Какой вы счастливец, что вам нечего делать, – сказал он, – право, вы сами не сознаете своего счастья!
– А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать? – с легкой иронией возразил Морсер. – Вы – личный секретарь министра, замешанный одновременно во все хитросплетения большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей и, что еще приятнее, королев, учреждаете партии, руководите выборами, у себя в кабинете, при помощи пера и телеграфа, достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы – обладатель двадцати пяти тысяч ливров годового дохода, не считая жалованья, владелец лошади, за которую Шато-Рено предлагал вам четыреста луидоров и которую вы ему не уступили. К вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон. Опера, Жокей-клуб и театр Варьете – и при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так я сумею развлечь вас.
– Чем же это?
– Новым знакомством.
– С мужчиной или с женщиной?
– С мужчиной.
– Я и без того их знаю много.
– Но такого вы не знаете.
– Откуда же он? С конца света?
– Быть может, еще того дальше.
– Черт возьми! Надеюсь, не он должен привезти ваш завтрак?
– Нет, будьте спокойны; завтрак готовят здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны?
– Да, сознаюсь, как это ни унизительно. Но я вчера обедал у господина де Вильфора; а заметили вы, что у этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучат угрызения совести.
– Браните, браните чужие обеды, а как едят у ваших министров?
– Да, но мы по крайней мере приглашаем порядочных людей, и если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы пуще смерти боялись бы обедать дома, смею вас уверить.
– В таком случае выпейте еще рюмку хереса и возьмите бисквит.
– С удовольствием, ваше испанское вино превосходно; вы видите, как мы были правы, водворяя мир в этой стране.
– Да, но как же дон Карлос?
– Ну что ж! Дон Карлос будет пить бордо, а через десять лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой.
– За что вы получите Золотое Руно, если к тому времени еще будете служить.
– Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами.
– Что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Бошана; вы с ним поспорите, и это вас отвлечет.
– О чем же спорить?
– О том, что пишут в газетах.
– Да разве я читаю газеты? – презрительно произнес Люсьен.
– Тем больше оснований спорить.
– Господин Бошан! – доложил камердинер.
– Входите, входите, грозное перо! – сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. – Вот Дебрэ говорит, что не терпит вас, хотя, по его словам, и не читает ваших статей.
– Он совершенно прав, – отвечал Бошан, – я тоже браню его, хоть и не знаю, что он делает. Здравствуйте, командор.
– А, вы уже знаете? – сказал личный секретарь министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку.
– Еще бы!
– А что говорят об этом в свете?
– В каком свете? В лето от рождества Христова тысяча восемьсот тридцать восьмое их много.
– В свете критико-политическом, где вы – один из львов.
– Говорят, что это вполне заслуженно и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого.
– Недурно сказано, – заметил Люсьен. – Почему вы не наш, дорогой Бошан? С вашим умом вы в три-четыре года сделали бы карьеру.
– Я только одного и жду, чтобы последовать вашему совету: министерства, которое могло бы продержаться полгода. Теперь одно слово, Альбер, тем более что надо же дать передохнуть бедняге Люсьену. Мы будем завтракать или обедать? Ведь мне надо в Палату. Как видите, в нашем ремесле не одни только розы.
– Мы только завтракаем и ждем еще двоих; как только они приедут, мы сядем за стол.
– А кого именно вы ждете? – спросил Бошан.
– Одного аристократа и одного дипломата, – отвечал Альбер.
– Ну, так нам придется ждать аристократа часа два, а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставьте мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в Палате.
– Бросьте, Бошан; даже если бы аристократа звали Монморанси, а дипломата – Меттерних, мы все равно сядем завтракать ровно в половине одиннадцатого; а пока последуйте примеру Дебрэ, возьмите хереса и бисквит.
– Хорошо, я остаюсь. Сегодня мне совершенно необходимо развлечься.
– Ну вот, и вы, как Дебрэ! А по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела.
– Да, но вы не знаете, что мне грозит! Сегодня днем, в Палате депутатов, я буду слушать речь Данглара, а вечером, у его жены, трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй! Ведь говорят, что мы могли выбирать; так как же мы выбрали Данглара?
– Я понимаю: вам надо запастись веселостью.
– Не пренебрегайте речами Данглара, – сказал Дебрэ. – Ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции.
– Вот в том-то и беда! И я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец, тогда уж я посмеюсь вволю.
– Сразу видно, что в Испании дела налажены, – сказал Альбер Бошану. – Вы сегодня ужасно язвительны. Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазель Эжени Данглар. Не могу же я, по совести, позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне: «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью два миллиона».
– Этой свадьбе не бывать, – прервал его Бошан. – Король мог сделать его бароном, может возвести его в пэры, но аристократа он из него не сделает. А граф де Морсер слишком большой аристократ, чтобы за два жалких миллиона согласиться на мезальянс. Виконт де Морсер может жениться только на маркизе.
– Два миллиона! Это все-таки недурно, – возразил Морсер.
– Это акционерный капитал какого-нибудь театра на Бульварах или железнодорожной ветки от Ботанического сада до Рапэ.
– Не слушайте его, Морсер, – лениво заговорил Дебрэ, – женитесь. Ведь вы сочетаетесь браком с денежным мешком. Так не все ли вам равно! Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше; в вашем гербе семь мерлеток; три из них вы уделите жене, и вам еще останется четыре. Это все ж одной больше, чем у герцога Гиза, а он чуть не сделался французским королем, и его двоюродный брат был германским императором.
– Да, пожалуй, вы правы, – рассеянно отвечал Альбер.
– Еще бы! К тому же всякий миллионер родовит, как незаконнорожденный.
– Шш! Замолчите, Дебрэ, – сказал, смеясь, Бошан, – вот идет Шато-Рено, он пронзит вас шпагой своего предка Рено де Монтобана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам.
– Он этим унизит свое достоинство, – отвечал Люсьен, – ибо я происхождения весьма низкого.
– Ну вот! – воскликнул Бошан. – Министерство запело на мотив Беранже; господи, куда мы идем!
– Господин де Шато-Рено! Господин Максимилиан Моррель! – доложил камердинер.
– Значит, все налицо! – сказал Бошан. – И мы сядем завтракать; ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только двоих, Альбер?
– Моррель! – прошептал удивленно Альбер. – Кто это – Моррель?
Но не успел он договорить, как г-н де Шато-Рено, красивый молодой человек лет тридцати, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью Гиша и умом Мортемара, взял его за руку.
– Разрешите мне, Альбер, – сказал он, – представить вам капитана спаги Максимилиана Морреля, моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. Приветствуйте моего героя, виконт.
Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку, с широким лбом, проницательным взглядом и черными усами, которого наши читатели видели в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом Почетного легиона, и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен.
– Господин Моррель, – радушно сказал Альбер, – барон Шато-Рено заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами; вы его друг – надеюсь, вы станете и нашим другом.
– Отлично, – сказал Шато-Рено, – и пожелайте, дорогой виконт, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня.
– А что он сделал? – спросил Альбер.
– Барон преувеличивает, – сказал Моррель, – право, не стоит об этом говорить!
– Как не стоит говорить? – воскликнул Шато-Рено. – Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить?.. Право, вы слишком уж большой философ, дорогой Моррель… Вы можете так говорить, вы рискуете жизнью каждый день, но я, на чью долю это выпало совершенно случайно…
– Во всем этом, барон, для меня ясно только одно: что капитан Моррель спас вам жизнь.
– Да, только и всего, – сказал Шато-Рено.
– А как это случилось? – спросил Бошан.
– Бошан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду! – воскликнул Дебрэ. – Не надо длинных рассказов.
– Да разве я вам мешаю сесть за стол?.. – сказал Бошан. – Шато-Рено все расскажет нам за завтраком.
– Господа, – сказал Морсер, – имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого и мы ждем последнего гостя.
– Ах да, дипломата, – сказал Дебрэ.
– Дипломата или что-нибудь еще, это мне неизвестно. Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и Золотое Руно и Подвязка.
– В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, – сказал Дебрэ, – налейте себе рюмку хереса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон.
– Вы все знаете, что недавно мне вздумалось съездить в Африку.
– Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шато-Рено, – любезно вставил Морсер.
– Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба господня.
– Вы правы, Бошан, – сказал молодой аристократ, – я просто хотел по-любительски пострелять из пистолета. Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей… бедному Францу д’Эпине, вы все его знаете.
– Ах да, верно, – сказал Дебрэ, – вы с ним когда-то дрались… А из-за чего?
– Хоть убейте, не помню, – отвечал Шато-Рено. – Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области, я решил испытать на арабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Оран, из Орана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я кое-как сносил днем дождь, а ночью снег; но на третье утро моя лошадь околела от холода: бедное животное привыкло к попонам, к теплой конюшне… Это был арабский конь, но он не узнал родины, встретившись в Аравии с десятиградусным морозом.
– Так вот почему вы хотите купить моего английского скакуна, – сказал Дебрэ. – Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод.
– Вы ошибаетесь, я поклялся никогда больше не ездить в Африку.
– Вы так струхнули? – спросил Бошан.
– Да, признаюсь, – отвечал Шато-Рено, – и было отчего! Итак, лошадь моя околела; я шел пешком; на меня во весь опор налетели шесть арабов, чтобы отрубить мне голову; двоих я застрелил из ружья, двоих – в упор из пистолетов, но оставалось еще двое, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы, – вот почему я теперь стригу их так коротко: как знать, что может случиться, – а другой приставил мне к шее свой ятаган, и я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин, в свою очередь, налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы, и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь; случаю угодно было, чтобы это оказалась моя; когда я буду богат, я закажу Клагману или Марокетти статую Случая.
– Это было пятого сентября, – сказал, улыбаясь, Моррель, – в годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец; и каждый год, по мере моих сил, я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь…
– Героическое, не правда ли? – прервал Шато-Рено. – Короче говоря, мне повезло, но это еще не все. После того как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком; а затем и от голода, разделив со мной… угадайте что?
– Паштет от Феликса? – спросил Бошан.
– Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску; это было нелегко!
– Съесть кусок лошади? – спросил, смеясь, Морсер.
– Нет, пойти на такую жертву, – отвечал Шато-Рено. – Спросите у Дебрэ, пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца?
– Для незнакомца – нет, – сказал Дебрэ, – а для друга – может быть.
– Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон, – сказал Моррель. – Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас.
– Эта история, на которую намекает Моррель, – продолжал Шато-Рено, – совершенно изумительна, и, когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет; а пока что довольно воспоминаний, займемся нашими желудками. В котором часу вы завтракаете, Альбер?
– В половине одиннадцатого.
– Точно? – спросил Дебрэ, вынимая часы.
– Вы подарите мне еще пять минут льготных, – сказал Морсер, – ведь я тоже жду спасителя.
– Чьего?
– Моего собственного, черт возьми, – отвечал Морсер. – Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спасти, как всякого другого, и только одни арабы рубят головы? Наш завтрак – завтрак филантропический, и за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, два благодетеля человечества.
– Как же быть? – сказал Дебрэ. – У нас ведь только одна Монтионовская премия?
– Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить, – сказал Бошан. – Обычно Академия так и выходит из затруднения.
– А откуда явится ваш спаситель? – спросил Дебрэ. – Прошу прощения за свою настойчивость; я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас.
– По правде сказать, я и сам не знаю, – отвечал Альбер, – три месяца тому назад, когда я его приглашал, он был в Риме; но кто может сказать, где он успел побывать за это время?
– И вы думаете, он способен быть пунктуальным? – спросил Дебрэ.
– Я думаю, что он способен на все.
– Имейте в виду, что даже с пятью минутами льготы остается ждать только десять минут.
– Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя.
– Простите, – сказал Бошан, – а можно из вашего рассказа сделать фельетон?
– Даже очень, – отвечал Морсер, – и прелюбопытный.
– Так рассказывайте; надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в Палату.
– Я был в Риме во время последнего карнавала.
– Это мы знаем, – прервал Бошан.
– Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками.
– Разбойников нет, – заметил Дебрэ.
– Нет, есть, существуют, и еще какие страшные, я хочу сказать – восхитительные. Они показались мне до ужаса прекрасными.
– Послушайте, дорогой Альбер, – сказал Дебрэ, – сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Марени или Остенде и что вы по примеру госпожи де Ментенон хотите заменить еду сказкой. Сознавайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была.
– А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяно.
– Я их знаю, – сказал Шато-Рено, – я там чуть было не схватил лихорадку.
– А я на самом деле схватил, – продолжал Альбер. – Мне заявили, что я пленник и что за меня требуется выкуп – пустяки, четыре тысячи римских пиастров, двадцать шесть тысяч турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только полторы тысячи, путешествие мое подходило к концу и кредит истощился. Я написал Францу… Да, ведь Франц был при этом, и вы можете спросить у него, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что если в шесть часов утра он не привезет четырех тысяч пиастров, то в десять минут седьмого я буду сопричислен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа – так звали атамана разбойников – честно сдержал бы свое обещание.
– Но Франц привез четыре тысячи пиастров? – сказал Шато-Рено. – Еще бы! Достать четыре тысячи пиастров не хитрость, когда зовешься Францем д’Эпине или Альбером де Морсером.
– Нет, он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить.
– Так этот господин – Геркулес, убивающий Кака, или Персей, освобождающий Андромеду?
– Нет, он с меня ростом.
– Вооружен до зубов?
– С ним не было и вязальной спицы.
– Но он заплатил выкуп?
– Он сказал два слова на ухо атаману, и меня освободили.
– Перед ним даже извинились, что задержали тебя, – прибавил Бошан.
– Вот именно, – подтвердил Альбер.
– Уж не Ариосто ли он?
– Нет, просто граф Монте-Кристо.
– Такого имени нет, – сказал Дебрэ.
– По-моему, тоже, – прибавил Шато-Рено с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы, – кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо?
– Может быть, он родом из Святой земли, – сказал Бошан, – вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары – Мертвым морем.
– Простите, господа, – сказал Максимилиан, – но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо – островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца; песчинка в Средиземном море, атом в бесконечности.
– Вы совершенно правы, – сказал Альбер, – и человек, о котором я вам рассказываю, – господин и повелитель этой песчинки, этого атома. Он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане.
– Так он богат, ваш граф?
– Думаю, что богат.
– Да ведь это должно быть видно?
– Ошибаетесь, Дебрэ.
– Я вас не понимаю.
– Читали вы «Тысячу и одну ночь»?
– Что за вопрос!
– А разве можно сказать, кто там перед вами – богачи или бедняки? Что у них: пшеничные зерна или рубины и алмазы? Вам кажется – это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровища, на которые можно купить всю Индию.
– Ну и что же?
– А то, что мой граф Монте-Кристо один из таких рыбаков; у него даже имя оттуда; его зовут Синдбад-мореход, и у него есть пещера, полная золота.
– А вы видели эту пещеру, Морсер? – спросил Бошан.
– Я – нет, а Франц видел. Но смотрите, ни слова об этом при нем! Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра – просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал гашиша; так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи.
Молодые люди смотрели на Морсера, и в их глазах ясно читалось: «С ума ты сошел или просто нас дурачишь?»
– В самом деле, – задумчиво сказал Моррель, – я слышал от одного старого моряка, по имени Пенелон, нечто похожее на то, о чем говорит господин де Морсер.
– Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает, – сказал Альбер. – Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт?
– Простите, дорогой друг, – сказал Дебрэ, – но вы рассказываете такие невероятные вещи…
– Невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут; им некогда, они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников.
– Вот вы и рассердились и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание; дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь.
– Вот еще! Чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета-Али, прислал мне шнурок и чтобы мои же секретари меня удушили!
– Ну вот видите, – сказал Дебрэ.
– Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует…
– Все на свете существуют! Нашли диковину!
– Все существуют, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценою в шесть тысяч франков, наложницы-гречанки.
– А вы ее видели, наложницу-гречанку?
– Да, и видел и слышал; видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа.
– Так он ест, ваш необыкновенный человек?
– По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит.
– Увидите, он окажется вампиром.
– Смейтесь, если хотите, но то же сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена.
– Поздравляю, Альбер, это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой, – воскликнул Бошан. – Стоит пресловутой морской змеи в «Конституционалисте». Вампир – просто великолепно!
– Глаза красноватые с расширяющимися и суживающимися, по желанию, зрачками, – произнес Дебрэ, – орлиный нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые и такие же манеры.
– Так оно и есть, Люсьен, – сказал Морсер, – все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже; а один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок не столько от работы палача и от криков осужденного, как от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни.
– А не водил он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Морсер? – спросил Бошан.
– А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Исав первородство?
– Смейтесь, смейтесь, сколько вам угодно, – сказал Морсер, слегка обиженный. – Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдатаи Гантского бульвара, посетители Булонского леса, и вспоминаю этого человека, то, право, мне кажется, что мы люди разной породы.
– И я этим горжусь! – сказал Бошан.
– Во всяком случае, – добавил Шато-Рено, – ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками.
– Никаких итальянских разбойников нет! – сказал Дебрэ.
– И вампиров тоже нет! – поддержал Бошан.
– И графа Монте-Кристо тоже нет, – продолжал Дебрэ. – Слышите, Альбер: бьет половина одиннадцатого.
– Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и идемте завтракать, – сказал Бошан.
Но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась и Жермен доложил:
– Его сиятельство граф Монте-Кристо!
Все присутствующие невольно вздрогнули и этим показали, насколько проник им в души рассказ Морсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения.
Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей; даже дверь отворилась бесшумно.
На пороге появился граф; он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу, все – платье, шляпа и белье – было сделано руками самых искусных поставщиков.
Ему было на вид не более тридцати пяти лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебрэ.
Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку.
– Точность – вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, – сказал Монте-Кристо, – но путешественники, при всем своем желании, не всегда могут соблюсти это правило. Все же я надеюсь, дорогой виконт, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те две или три секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. Пятьсот лье не всегда можно проехать без препятствий, тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров.
– Граф, – отвечал Альбер, – я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить: граф Шато-Рено, чье дворянство восходит к двенадцати пэрам и чьи предки сидели за Круглым столом; господин Люсьен Дебрэ – личный секретарь министра внутренних дел; господин Бошан – опасный журналист, гроза французского правительства; он широко известен у себя на родине, но вы в Италии, быть может, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена; наконец, господин Максимилиан Моррель – капитан спаги.
При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми очень вежливо, но с чисто английским бесстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как молния, на его бледных щеках.
– Вы носите мундир французов-победителей, – сказал он Моррелю. – Это прекрасный мундир.
Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало.
– Вы никогда не видали наших африканцев? – спросил Альбер.
– Никогда, – отвечал граф, снова вполне овладев собою.
– Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии.
– О виконт! – прервал Моррель.
– Позвольте мне договорить, капитан… И мы сейчас узнали, – продолжал Альбер, – о таком геройском поступке господина Морреля, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга.
И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо.
– Вот как! – сказал он. – Значит, капитан – благородный человек. Тем лучше!
Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Моррелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться.
– Какие у него могли быть основания в этом сомневаться? – спросил Бошан у Шато-Рено.
– В самом деле, – отвечал тот, своим наметанным и зорким глазом аристократа сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению, – Альбер нас не обманул, и этот граф – необыкновенный человек; как вам кажется, Моррель?
– По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странное замечание на мой счет.
– Господа, – сказал Альбер, – Жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу.
Все молча прошли в столовую и заняли свои места.
– Господа, – заговорил, усаживаясь, граф, – разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности: я здесь чужой, больше того, я первый раз в Париже. Поэтому с французской жизнью я совершенно незнаком; до сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. И я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, неаполитанского или арабского. А засим приступим к завтраку.
– Как он говорит! – прошептал Бошан. – Положительно это вельможа!
– Чужеземный вельможа, – добавил Дебрэ.
– Вельможа всех стран света, господин Дебрэ, – заключил Шато-Рено.
II. Завтрак
Как читатели, вероятно, помнят, граф был очень умерен в еде. Поэтому Альбер выразил опасение, что парижский образ жизни с самого начала произведет на него дурное впечатление своей наиболее материальной, хотя в то же время наиболее необходимой стороной.
– Дорогой граф, – сказал он, – я сильно опасаюсь, что кухня улицы Эльдер понравится вам меньше кухни Пьяцца-ди-Спанья. Мне следовало заранее осведомиться о ваших вкусах и заказать блюда, которые вы предпочитаете.
– Если бы вы знали меня ближе, – ответил, улыбаясь, граф, – вас не заботили бы такие пустяки. В моих путешествиях мне приходилось питаться макаронами в Неаполе, полентой в Милане, оллаподридой в Валенсии, пилавом в Константинополе, карриком в Индии и ласточкиными гнездами в Китае. Для такого космополита, как я, вопроса о кухне не существует. Где бы я ни был, я ем все, только ем понемногу; а как раз сегодня, когда вы сетуете на мою умеренность, у меня волчий аппетит, потому что со вчерашнего утра я ничего не ел.
– Как со вчерашнего утра? – воскликнули все. – Неужели вы ничего не ели целые сутки?
– Да, – отвечал Монте-Кристо. – Мне пришлось свернуть с дороги, чтобы собрать некоторые сведения в окрестностях Нима, это несколько задержало меня, и я не хотел нигде останавливаться.
– И вы пообедали в карете? – спросил Морсер.
– Нет, я спал; я всегда засыпаю, когда мне скучно и нет охоты развлекаться или когда я голоден и нет охоты есть.
– Так вы, значит, можете заставить себя заснуть? – спросил Моррель.
– Почти что так.
– И у вас есть для этого какое-нибудь средство?
– Самое верное.
– Вот что пригодилось бы нам, африканцам, – сказал Моррель, – у нас ведь не всегда бывает пища, а питье – и того реже.
– Несомненно, – сказал Монте-Кристо, – но, к сожалению, мое средство, чудесное для такого человека, как я, живущего совсем особой жизнью, было бы опасно применить в армии; она не проснулась бы в нужную минуту.
– А можно узнать, что это за средство? – спросил Дебрэ.
– Разумеется, – сказал Монте-Кристо, – я не делаю из него тайны: это смесь отличнейшего опиума, за которым я сам ездил в Кантон, чтобы быть уверенным в его качестве, и лучшего гашиша, собираемого между Тигром и Евфратом; их смешивают в равных долях и делают пилюли, которые вы и глотаете, когда нужно. Действие наступает через десять минут. Спросите у барона Франца д’Эпине; он, кажется, пробовал их однажды.
– Да, – сказал Альбер, – он говорил мне; он сохранил о них самое приятное воспоминание.
– Значит, – сказал Бошан, который, как полагается журналисту, был очень недоверчив, – это снадобье у вас всегда при себе?
– Всегда, – отвечал Монте-Кристо.
– Не будет ли с моей стороны нескромностью попросить вас показать нам эти драгоценные пилюли? – продолжал Бошан, надеясь захватить чужестранца врасплох.
– Извольте.
И граф вынул из кармана очаровательную бонбоньерку, выточенную из цельного изумруда, с золотой крышечкой, которая, отвинчиваясь, пропускала шарик зеленоватого цвета величиною с горошину. Этот шарик издавал острый, въедливый запах. В изумрудной бонбоньерке лежало четыре или пять шариков, но она могла вместить и дюжину.
Бонбоньерка обошла стол по кругу, но гости брали ее друг у друга скорее для того, чтобы взглянуть на великолепный изумруд, чем чтобы посмотреть или понюхать пилюли.
– И это угощение вам готовит ваш повар? – спросил Бошан.
– О нет, – сказал Монте-Кристо, – я не доверяю лучших моих наслаждений недостойным рукам. Я неплохой химик и сам приготовляю эти пилюли.
– Великолепный изумруд! – сказал Шато-Рено. – Такого крупного я никогда не видал, хотя у моей матери есть недурные фамильные драгоценности.
– У меня их было три таких, – пояснил Монте-Кристо, – один я подарил падишаху, который украсил им свою саблю; второй – его святейшеству папе, который велел вставить его в свою тиару, против почти равноценного ему, но все же не такого красивого изумруда, подаренного его предшественнику Пию Седьмому императором Наполеоном; третий я оставил себе и велел выдолбить. Это наполовину обесценило его, но так было удобнее для того употребления, которое я хотел из него сделать.
Все с изумлением смотрели на Монте-Кристо; он говорил так просто, что ясно было: его слова либо чистая правда, либо бред безумца; однако изумруд, который он все еще держал в руках, заставлял придерживаться первого из этих предположений.
– Что же дали вам эти два властителя взамен вашего великолепного подарка? – спросил Дебрэ.
– Падишах подарил свободу женщине, – отвечал граф, – святейший папа – жизнь мужчине. Таким образом, раз в жизни мне довелось быть столь же могущественным, как если бы я был рожден для трона.