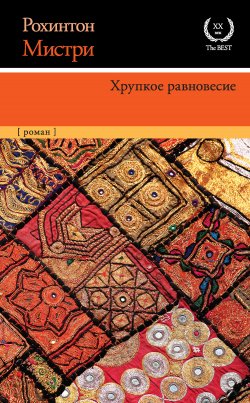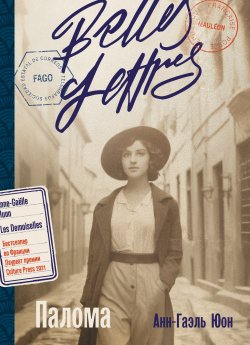Жми, тут можно >>> Аудиокниги слушать онлайнбесплатно
Пролетая над гнездом кукушки - Кизи Кен Элтон

-
Тип:Электронные книги
- Жанр:Скачать книги / Читать книги онлайн / Зарубежные книги / Классика книги / Новинки книги / Психология книги
Скачать книгу Пролетая над гнездом кукушки - Кизи Кен Элтон бесплатно
— И пропади все пропадом, я вовсе не хочу, чтобы за меня взялся старый дружок нашей няньки со своими тремя тысячами вольт. Для меня это — не больше чем просто приключение.
— Да. Вы правы.
Хардинг победил в споре, но никто не выглядит слишком счастливым. Макмерфи сунул большие пальцы в карманы и попытался рассмеяться.
— Нет, сэр, я никогда не слышал, чтобы кому-нибудь предлагали премию в двадцать баксов, чтобы прищучить ту, которая отрезает яйца.
Все начинают ухмыляться вместе с ним, но особого веселья нет. Я рад, что Макмерфи уклонился от ответа и что ему не пришлось лицемерить, но я знаю, что чувствуют ребята; я и сам не слишком счастлив. Макмерфи зажег новую сигарету. Никто не сдвинулся с места, все стоят возле него, ухмыляясь и чувствуя неловкость. Макмерфи снова почесал нос и отвел взгляд от лиц больных, обернулся, посмотрел на сестру и прикусил губу.
— Но вы говорите… она не отсылает в ту, другую палату, пока вы не сваляете дурака? Пока каким-то образом не сломаетесь и не начнете проклинать ее, или биться головой о стену, или что-то, в этом роде?
— Именно так.
— Вы в этом уверены, ребята? Вижу, птички мои, как вы все тут поджимаете лапки. И у меня появились кое-какие соображения по этому поводу. Но я не намерен становиться легкой добычей. Я с таким трудом выбрался из той дыры и не собираюсь бросаться из огня да в полымя.
— Абсолютно верно. Она бессильна что-либо сделать, пока ты не совершишь чего-либо, достойного буйного отделения или электрошокера. Если ты достаточно крутой, чтобы не дать до тебя добраться, она ничего не сможет сделать.
— Значит, если я буду правильно себя вести и не выводить ее из себя…
— И не выводить из себя санитаров.
— …И не выводить из себя санитаров и не пытаться вытащить джокера из колоды, она не сможет мне ничего сделать?
— Это — правила, по которым мы играем. Конечно же она всегда выигрывает, друг мой, всегда. Она стала неприступной, и, поскольку время играет ей на руку, она в конце концов добирается до всякого. Именно поэтому в больнице она считается лучшей сестрой, что дает ей безграничную власть; она — мастерица выводить либидо на чистую воду и заставлять его трепетать…
— Да черт с этим. Хочу знать другое: уцелею ли я, если попытаюсь побить ее в ее собственной игре? Если я прикинусь легкой добычей, то, какой бы козырь я ни ввел,она ведь не станет трепать себе нервы и отправлять меня на электрический стул?
— Ты в безопасности до тех пор, пока сохраняешь над собой контроль. Пока ты не выйдешь из себя и не дашь серьезного повода, чтобы ограничить твою активность в буйном отделении или предложить использовать на тебе преимущества электрошока, ты в безопасности. Но это требует одного — держать себя в руках. А вы? С вашими рыжими волосами и черными записями в истории болезни? К чему себя обманывать?
— Хорошо. — Макмерфи потер руки. — Вот что я думаю. Вы, птички мои, похоже, полагаете, что к вам явился еще один неудачник, так? Какая — как вы там ее называете? — а, точно, неприступная женщина. Но я хочу знать, кто из вас настолько в этом уверен,чтобы поставить на нее немножко денег?
— Настолько в этом уверен?..
— Слышали, что я сказал: кто из вас, хитрецы, желает получить мои пять баксов, тот должен только сказать, что я не сумею ублажить эту женщину. Одна неделя. И если она у меня через неделю не будет гадать — то ли она оказалась в жопе, то ли кое в чем поднаторела, — деньги ваши.
— Ты споришьна это. — Чесвик переминается с ноги на ногу и потирает руки — точно так же, как Макмерфи.
— Черт побери, ты совершенно прав.
Хардинг и кое-кто еще говорят, что они не въехали.
— Это достаточно просто. Все без обмана, и никаких сложных правил. Я иду на спор. И я люблю выигрывать. Думаю, что выиграю это пари, о’кей? В Пендлетоне ребята в тюрьме не решались ставить против меня ни цента, такой я везучий. Понимаете, одна из причин, почему я здесь, в том, что мне нужны новые простачки. Я вам кое-что скажу: прежде чем попасть сюда, я узнал кое-что о вашем местечке. Черт побери! Половина из вас получают здесь пособие — три-четыре сотни в месяц, — и вам с ними совершенно нечего делать, кроме как позволить им превратиться в пыль. Я подумал, что смогу этим воспользоваться и, может быть, сделать вашу и мою жизнь несколько богаче. Я назначаю вам самую низкую ставку. Я — игрок, и стараюсь никогда не проигрывать. И я никогда не встречал женщины, которая могла бы взять надо мной верх, не важно, могу ли я до нее добраться или нет. Может быть, у нее есть преимущество во времени, но и моя полоса везения длится уже достаточно долго. — Он стаскивает с головы кепку, крутит ее в руке и ловит другой рукой, не слишком-то опрятной. — И вот еще что: я оказался здесь потому, что сам этого захотел, ясно и просто, потому что это место — лучше, чем работная ферма. Психом я не был и никогда не замечал этого за собой. Ваша нянька думает иначе, а я выйду на нее с ясной головой, которая работает быстро, как спусковой крючок. Насколько я помню, моя голова всегда была такой. Это будет для меня как раздражитель, а он-то мне и нужен. Так что вот вам мое слово: пять баксов каждому, если я не смогу превратить вашу няньку в ручную шлюху в течение недели.
— Я все еще не совсем уверен, правильно ли я…
— Именно так. Пчела ей в задницу, буравчик в штаны. Вызовем ее неудовольствие. Будем следить за ней до тех пор, пока ее не разорвет на части по этим ее аккуратным маленьким шовчикам, и одновременно покажем, что она не так уж неуязвима, как вы думаете. Одна неделя. Я разрешаю тебе судить, выиграл я или нет.
Хардинг берет карандаш и записывает что-то в блокноте для пинокля.
— Вот. Расписка на десять долларов из моих денег, которые залежались в пенсионном фонде. Но я заплатил бы вдвое больше, друг мой, чтобы увидеть это невероятное чудо.
Макмерфи посмотрел на листок и складывает его:
— Ну что, птички, кто-нибудь еще раскошелится?
Острые выстроились в ряд, по очереди записываясь в блокноте. Макмерфи собирает листки бумаги, складывает их в кучку у себя на ладони и прижимает большим жестким ногтем. Я вижу, как стопка бумаги растет у него в руке.
— Вы доверяете мне держать ставки, парни?
— Полагаю, что мы ничем не рискуем, — ответил Хардинг. — Некоторое время вы все равно побудете среди нас.
* * *
Как-то в Рождество, ровно в полночь, двери отделения открываются с громким треском и вваливается толстяк с бородой, с покрасневшими от холода глазами и носом цвета вишни. Черные ребята загнали его в угол с помощью фонариков. Я вижу, как он запутался в мишуре, которую Связи с общественностью развесил по всей комнате, и повсюду натыкается на нее в темноте. Он прикрывает покрасневшие глаза от света фонариков и облизывает усы.
— Хо, хо, хо, — говорит он. — Хотелось бы остаться с вами, но я должен торопиться. Очень плотный график, знаете ли. Хо, хо. Должен отправляться…
Черные ребята надвигаются на него с фонариками. Они продержали его с нами шесть лет, прежде чем отпустить на волю — чисто выбритого и тощего, словно шест.
Большая Сестра может устанавливать стенные часы на ту скорость, которая ей нужна, просто поворачивая один из этих дисков в стальной двери; она знает, как поторопить ход вещей, она регулирует скорость, и ее руки вертят диск туда-сюда, словно спицы в колесе. Картинка в оконных экранах постепенно меняется, она показывает сначала утро, потом полдень, потом ночь — пульсирует туда сюда, сменяя день и тьму, и все сделано так, чтобы мы спятили, чтобы следовали этому поддельному времени; страшная мешанина из умывания, завтрака, назначений, обеда, приема лекарств и десять минут ночи, так что ты едва успеваешь закрыть глаза, как лампы в спальне вопят тебе, что пора вставать и снова начинать привычную круговерть, иногда по двадцать раз за час, пока Большая Сестра не увидит, что все уже на пределе и вот-вот сломаются. Тогда она ослабляет хватку, делает тише шаг часовых дисков, словно какого-то ребенка дурачат с помощью проектора, и на экране двигаются картинки со скоростью, в десять раз быстрее нормальной, а его уже не забавляет вся эта дурацкая беготня и жужжание насекомых вместо нормального разговора, и тогда он поворачивает ручку, и все приходит в норму.
Она любит играть со скоростью, особенно в те дни, когда кто-то должен тебя навестить или когда падают цены и показывают негритянское шоу из Портленда, — в такое время, когда хотелось бы задержаться и чтобы оно потянулось подольше. И вот тогда она включает на полную катушку.
Но чаще бывает наоборот — скорость замедляется. Она поворачивает диск так, что он застывает намертво и замораживает солнце на экране, и оно неделями не сдвигается ни на волосок, так что ни листок на дереве, ни былинка не дрогнут в траве на пастбище. Стрелки часов застыли на двух минутах третьего, и она держит их, пока мы не покроемся ржавчиной. Ты сидишь и не можешь пошевелиться, не можешь пройтись или хотя бы двинуться, чтобы снять напряжение, не можешь сглотнуть и не можешь дышать. Единственное, чем ты еще можешь двигать, — это глаза. Только видеть им нечего — одни только окаменевшие Острые по ту сторону комнаты, выжидающие, чья очередь сделать ход в игре. Старый Хроник рядом со мной мертв уже шесть дней, и он гниет и оползает на стуле. А иногда вместо тумана она пускает через вентиляцию прозрачный химический газ, и все отделение застывает, когда он превращается в пластик.
Одному только Господу известно, сколько времени мы так сидим.
Затем она постепенно ослабляет уровень, и это даже еще хуже. Мне легче выносить мертвую неподвижность, чем эту медленную, словно она движется в сиропе, руку Скэнлона по ту сторону комнаты, которой нужно три дня, чтобы положить карту на стол. Мои легкие втягивают этот густой пластиковый воздух, словно ему нужно пройти через игольное ушко. Я пытаюсь пойти в уборную и чувствую себя погребенным под тоннами песка, сжимая свой мочевой пузырь так, что зеленые искры начинают вспыхивать и трещать на моем лбу.
Я напрягаю каждый мускул, каждую кость, чтобы встать со стула и пойти в уборную, я тружусь над этим так упорно, что мои руки и ноги начинают дрожать, а зубы сводит от боли. Я напрягаюсь и напрягаюсь, но все, чего мне удается добиться, — это оторваться, может быть, на четверть сантиметра от кожаного сиденья стула. Так что я падаю назад и сдаюсь и позволяю моче просочиться наружу, а она уже приводит в действие горячую соленую проволочку, идущую вдоль моей ноги, которая включает унизительный сигнал тревоги, сирены, прожектора, и все вокруг начинают вопить и носиться туда-сюда, и большие черные ребята отвешивают пинки направо и налево, разгоняют толпу, пробираясь прямиком ко мне, размахивая отвратительными швабрами, мокрая медная проволока которых потрескивает и блестит, словно от воды с ней приключилось короткое замыкание.
Единственное время, когда мы отдыхаем от контроля, — это туман; когда спускается туман, время перестает что-нибудь значить. Оно растворяется в тумане, как и все остальное. (Сегодня весь день они почти не напускали тумана — во всяком случае, с того момента, как в отделении появился Макмерфи. Могу поспорить, что он взревел бы, словно бык, если бы они подпустили туману.)
Когда ничего не происходит, ты обычно без особого успеха пытаешься бороться с туманом или с контролем времени, но сегодня что-то случилось: сегодня целый день они не пробовали на нас ни одной из этих штук, во всяком случае — после бритья. В этот вечер все как положено. Когда вторая смена заступила на дежурство, часы показывают четыре тридцать — как оно и должно быть. Большая Сестра отпускает черных ребят и в последний раз осматривает отделение. Она вытаскивает из голубого — цвета стали — узла на затылке длинную шляпную булавку, стаскивает белый чепец и аккуратно укладывает его в ящик стола (в этом ящике у нее лежат нафталиновые шарики), а потом обеими руками вонзает булавку обратно в узел.
Через стекло я вижу, как она желает всем доброй ночи. Она вручает маленькой вертлявой сестре с родимым пятном записку; потом ее руки добираются до контрольной панели в стальной двери. Щелкнув, включает громкоговоритель в дневной комнате:
— Доброй ночи, мальчики. Ведите себя хорошо.
И врубает музыку громче, чем обычно. Она протирает изнутри стекла очков; взгляд, полный отвращения, без всяких слов объявляет черному парню, который только что отчитывался перед ней, что ему пора приниматься за уборку. Он так и стоит за стеклом, держа перед собой бумажное полотенце, пока она не закрывает за собой дверь отделения.
Машинерия в стенах, присвистнув, вздыхает и падает до самой низкой отметки.
Теперь до самой ночи нам предстоит есть, принимать душ и, вернувшись, снова сидеть в дневной комнате. Старина Бластик, самый древний из Овощей, ухватился за живот и застонал. Джордж (черные ребята назвали его «там-тарарам») принялся мыть руки в фонтанчике с питьевой водой. Одни Острые сидят и играют в карты, другие пытаются добиться от телевизора хорошего изображения, перетаскивая антенну в поисках лучшего сигнала.
Громкоговорители в потолке все еще выдают музыку. Музыка идет с сестринского поста, где она записывается на длиннющую магнитофонную ленту. Запись мы знаем так хорошо, что ее уже никто и не слышит, кроме новичков вроде Макмерфи. Он к ней еще не привык. Он устроил азартную игру на сигареты, и они объявляют ставки прямо за карточным столом. Надвинул кепку на глаза, а голову откинул назад и выглядывает из-под козырька, чтобы видеть карты. В зубах у него сигарета, и он болтает, словно аукционист на распродаже старья, которого я один раз видел в Дэлз.
— …Вот так, вот так, давай, давай, — говорит он быстро и громко. — Я хочу знать, сосунки, вы ходите или пропускаете. Ходите, говорите? Очень, очень хорошо, мы видим, что парнишка решился сделать ход. Посмотрим, посмотрим. Значит, ты ходишь, и это очень плохо, дама к налету, и они перелезают через стену и уходят вдаль по дороге, поднимаются на холмы и теряют свою ценность. Хожу к тебе, Скэнлон, и хотелось бы мне, чтобы хоть один идиот в этом сумасшедшем доме догадался выключить эту проклятую музыку! Фу-у-х! Неужели эта штука играет день и ночь, а, Хардинг? В жизни своей не слышал такого зашибенного говна.
Хардинг смотрит на него ничего не выражающим взглядом.
— О каком таком шуме вы говорите, мистер Макмерфи?
— Об этом чертовом радио, парень. Оно здесь играет с тех самых пор, как я прибыл сюда сегодня утром. И не надо мне тут парить, будто бы вы его не слышите.
Хардинг поднимает ухо к потолку.
— О да, так называемая музыка. Полагаю, если сосредоточиться, то можно ее услышать, но также можно услышать, как бьется твое сердце, если… сосредоточиться. — Он усмехается, глядя на Макмерфи. — Видите ли, друг мой, это играет запись. Мы редко слушаем радио. Новости о том, что творится в мире, могут иметь отрицательный терапевтический эффект. А эту запись мы слышали такое количество раз, что уже не воспринимаем ее, — так звук водопада становится вскоре не слышен тому, кто живет с ним рядом. Как вы полагаете, если бы вы жили рядом с водопадом, вы долго бы слышали его шум?
(Я до сих пор слышу шум водопадов Колумбии, и всегда буду, всегда буду слышать радостный крик Чарли Медвежьего Живота, ударяющего гарпуном по рыбе, слышать, как плещется рыба в воде, как смеются на берегу голые детишки, как женщины болтают в амбарах… все это было давным-давно.)
— Они что, никогда ее не выключают, как водопад? — озадаченно спрашивает Макмерфи.
— Только когда мы спим, — отвечает Чесвик, — но все остальное время она играет, это правда.
— Черт бы побрал все это! Я сейчас скажу черномазому, чтобы он ее выключил, иначе я надеру ему его жирную задницу! — Он поднимается, но Хардинг касается его руки:
— Дружище, это, без сомнения, заявление такого рода, которое свидетельствует о склонности человека к насилию. Вы готовы проиграть пари?
Макмерфи смотрит на него:
— Вот так это все и будет, а? Игра в поддавки? Все время уступать старухе по мелочам?
— Именно так все и происходит.
Макмерфи медленно опускается обратно на стул со словами:
— Лошадиное дерьмо!
Хардинг оглядел карточный стол и посмотрел на Острых.
— Джентльмены, я замечаю в нашем рыжеволосом смутьяне совершенно негероическое стремление к стоицизму, которое так не вяжется с образом телевизионного ковбоя. — И он, улыбаясь, смотрит через стол на Макмерфи.
Макмерфи кивнул ему, подмигнул и лизнул свой большой палец.
— Итак, джентльмены, наш профессор Хардинг рассуждает так, словно чего-то нанюхался. Он выиграл пару партий и теперь ведет себя словно мудрый парень. Ну хорошо, хорошо; вот он сидит с двумя очками выигрыша и перед ним пачка «Мальборо», которую он собирается отыграть… Посмотрите, у него тройка, он хочет еще, хочет еще выиграть, а не попробовать ли большую пятерку, профессор? Попробуйте эту большую двойную ставку, разве не стоит рискнуть? Но другая пачка говорит о том, что вы не станете. Ну хорошо, хорошо, профессор, это целая история, печальная история, про то, как другая леди и профессор вместе проваливают экзамен…
В громкоговорителе зазвучала очередная песня, громкая и визгливая, под аккордеон. Макмерфи поднимает глаза к громкоговорителю, его голос становится все громче и громче, чтобы перекричать музыку:
— …Эй, эй, отлично, следующий,черт побери, вы ходите или вы пропускаете… мой ход…
И так до тех пор, пока в полдесятого не вырубают свет.
Весь вечер я смотрел на Макмерфи за карточным столом: то, как он управлялся с ними, и как говорил, и как доводил их до той грани, когда они уже готовы были сдаться,а потом давал взятку-другую, чтобы придать уверенности и снова втянуть в игру. Один раз он прервался, чтобы покурить, и развалился на стуле — руки сплетены за головой — и сказал ребятам:
— Секрет хорошего мошенника в том, чтобы суметь понять, чего хочеттвоя жертва и как внушить ей, что она это получит. Я научился этому, когда один раз работал на волшебном колесе на Масленицу. Ты определяешь сосунка с первого взгляда, когда он только подходит к тебе, и говоришь: «Вот и птичка, которая сама идет в твою сеть». И всякий раз, когда он проигрывает и начинает огрызаться и кричать, ты подходишь и говоришь ему: «Пожалуйста, не волнуйтесь. Никаких проблем. Следующий круг бесплатно, сэр». Так что вы оба получаете то, что хотели. — Он наклоняется вперед, и ножки его стула трещат. Он ухватил колоду, с треском провел по ней большим пальцем, постучал ею по краю стола и облизнул большой и указательный пальцы. — И вот что я понял: нам необходим большой жирный куш, чтобы он нас искушал. В следующий раз поставим на кон десять пачек. Черт бы вас побрал, крепче держитесь за свои яйца… — Макмерфи откидывает голову и хохочет так громко, что ребята принимаются расталкивать друг друга локтями, чтобы сделать ставки.
Смех раздавался по дневной комнате весь вечер. Он много шутил и пытался рассмешить игроков. Но все они очень боялись проиграть. Долго ждать не пришлось. Он перестал поддаваться и перешел к серьезной игре. Им удалось раз или два выиграть у него, но он все время откупал или отыгрывал проигрыш, и кучки сигарет по обе стороны от него становились все больше и больше, они превратились в две неровные пирамиды.
И вот как раз перед отбоем он вдруг начал давать им выиграть, он позволяет им отыграть все назад так быстро, что они даже забывают о проигрыше. Он выплачивает в качестве проигрыша последнюю пару сигарет, кладет на стол колоду и со вздохом откидывается на спинку стула, надвинув кепку на глаза. Игра окончена.
— Итак, джентльмены, немного выиграть и продуть остальное — именно это я говорю в таких случаях. — Он потряс головой, показывая, как расстроен. — Я даже не знаю — я всегда хорошо играл в двадцать одно, но, может быть, вы, птенчики, чересчур крутыдля меня. Вы, похоже, каким-то образом жульничали,мне трудно будет завтра играть с такими шулерами на настоящие деньги.
Он не обманывает себя насчет того, что они попадутся на эту удочку. Он позволил им выиграть, и каждый из тех, кто следил за игрой, знает это. Знают это и игроки. Среди них так и не нашлось человека, который посягнул бы на его кучку сигарет. Сигарет, которые он по-настоящему не выиграл, а просто отыграл назад, потому что они с самого начала были его, — и все же на лице его уже больше нет ухмылки, говорящей о том, что он — самый крутой игрок на Миссисипи.
Жирный черный парень и черный парень по имени Гивер врываются в дневную комнату и принимаются выключать свет с помощью маленького ключа на цепочке. В отделении темнеет, а глаза маленькой сестры с родимым пятном становятся больше и ярче. Она стоит в дверях стеклянного поста, раздавая пилюли перед сном больным, которые проходят мимо нее один за другим, шаркая ногами, и ей приходится нелегко — нужно помнить, кого и чем следует травить этой ночью. Она даже воду наливает не глядя. Ее внимание приковано к здоровенному парню с рыжими волосами в ужасающей кепке и с пугающим шрамом. Она увидела, как Макмерфи поднимается и отходит от карточного стола в потемневшей дневной комнате, поправляя заскорузлой ладонью прядь волос, которая попала за воротник его лагерной рубахи, и по тому, как она отпрянула, когда он добрался до двери сестринского поста, я понял, что Большая Сестра, вероятно, заранее предупредила ее о нем. («О, еще кое-что перед тем, как я оставлю на вас отделение сегодня вечером, мисс Пилбоу, — этот новый пациент, который сидит вон там, тот самый, у которого кричащие рыжие баки и рваная рана на лице, — у меня есть причины полагать, что он сексуальный маньяк».)
Макмерфи заметил, как испуганно она на него смотрит, у нее даже глаза расширились от страха, поэтому он просовывает голову в дверь сестринского поста, где она раздает пилюли, и ради знакомства одаривает ее широкой дружеской улыбкой. Это ее так пугает, что она проливает воду на ноги. Она вскрикивает и прыгает на одной ноге, руки трясутся, и пилюли, которые она собралась дать мне, выскакивают из маленькой чашечки и влетают прямо за шиворот ее формы, куда родимое пятно убегает, словно винная река, впадающая в долину.
— Позвольте предложить вам руку, мадам. — И тут же сама рука просовывается в дверь сестринского поста, вся в шрамах и татуировках, цвета непрожаренного мяса.
— Отойдите! Со мной в отделении два санитара! — Она ищет глазами черных парней, но их нет рядом, поскольку они пытаются запихнуть Хроников в кровати, хотя они достаточно близко, чтобы прийти на помощь в случае нужды.
Макмерфи ухмыляется и поворачивает руку, показывая, что он без ножа. Она видит только восковую мозолистую ладонь.
— Все, что я собирался сделать, мисс, это…
— Отойдите! Пациентам не разрешается заходить. Отойдите, я — католичка! — И она дергает золотую цепочку, обвившуюся вокруг шеи, так что крест вылетает из ложбинки между грудей, подбросив в воздух последнюю пилюлю!
Макмерфи стоит перед ней как громом пораженный. Она закричала и сунула крестик в рот, зажмурилась, словно в ожидании удара, так и стоит, белая, словно бумага, и только родимое пятно стало еще темнее, словно впитало всю кровь из тела. Когда она наконец снова открывает глаза, перед ней все та же мозолистая рука, а в ней — моя маленькая красная капсула.
— …Пришлось поднять, а вот и остальное, вы все уронили. — Он протягивает ей коробку, которую держал в другой руке.
Ее дыхание переходит в громкий свист. Она берет у него коробку.
— Благодарю вас. Доброй ночи, доброй ночи, — и закрыла дверь прямо перед лицом следующего. Это означало, что сегодня вечером пилюль больше не будет.
В спальне Макмерфи касается подушки на моей кровати.
— Тебе нужен твой прокисший шарик, Вождь?
Я трясу головой, глядя на пилюлю, и он забрасывает ее под кровать, словно это докучный клоп. Она катится по полу, потрескивая, как сверчок. Он готовится лечь спать и стягивает с себя одежду. Трусы под его рабочими штанами сшиты из угольно-черного атласа, разукрашенного огромными белыми китами с красными глазами. Он ухмыльнулся, когда заметил, что я смотрю на его трусы.
— Это — от одной студентки из штата Орегон, Вождь, она — совершеннолетняя, в буквальном смысле этого слова. — Он оттягивает резинку большим пальцем. — Она дала их мне, потому что я — символ. Она так сказала.
Его руки, спина и лицо обожжены солнцем и поросли кудрявыми оранжевыми волосами. На огромных плечах у него красуются татуировки. На одном написано: «Морская пехота» и дьявол с красным глазом, красными рогами и винтовкой «М-1», а на другом — рука, играющая в покер, раскинувшая вдоль его мускулов тузы и восьмерки. Он скатал одежду и положил ее на тумбочку рядом с моей кроватью и принимается взбивать свою подушку. Ему досталась кровать справа от моей.
Он забирается под простыню и говорит мне, что лучше постелиться самим, чем ждать, когда явится один из этих ребят с фонариком. Я оглядываюсь, черный парень по имени Гивер уже подходит, и я скидываю свои шлепанцы и ныряю в кровать как раз, когда он подходит, чтобы привязать меня простыней. Закончив со мной, он в последний раз оглядывается, хихикает и выключает свет.
В спальне царит темнота, только с сестринского поста отсвечивает белым. Я только чувствую Макмерфи справа от себя, он дышит глубоко и ровно, простыня на нем поднимается и опускается. Дыхание становится все медленнее и медленнее, и мне кажется, что он уже спит. А потом я слышу мягкий, горловой звук, доносящийся от его кровати, словно фырканье лошади. Он не спит и смеется над чем-то.
Потом перестает смеяться и шепчет:
— Ну ты и прыгнул, Вождь, когда я сказал тебе, что этот черномазый приближается. А мне говорили, что ты глухой.
В первый раз за долгое-долгое время лежу в постели, не проглотив этой маленькой красной капсулы (если я ее прячу, чтобы не принимать, ночная сестра с родимым пятном посылает черного парня по имени Гивер выследить меня, и он светит на меня фонариком до тех пор, пока она не приготовит иглу для укола), так что, когда черный парень проходит со своим фонариком, я притворяюсь спящим.
Когда ты принимаешь одну из этих красных пилюль, ты не просто засыпаешь, тебя парализует сном, и всю ночь ты не можешь проснуться, что бы вокруг тебя ни происходило. Именно поэтому персонал и дает мне эти пилюли: в старом отделении я просыпался посреди ночи и видел, что они творят над спящими больными.
Я лежу без движения и медленно дышу, ожидая, не случится ли сегодня что-нибудь. В спальне совершенно темно, и я только слышу, как они двигаются туда-сюда в своих тапках на каучуковой подошве; дважды они входят в спальню и фонариком осматривают каждого. Я лежу с закрытыми глазами, но не сплю. Слышу причитания из буйного отделения: в туалет, в туалет — видимо, одного из парней привязали к проволоке, чтобы он подавал кодовые сигналы.
— Ну что, по пиву, я думаю, у нас впереди долгая ночь, — слышу, как один черный парень прошептал это другому. Каучуковые подошвы проскрипели мимо сестринского поста, где стоит холодильник. — Ты любишь пиво, моя сладкая девочка с родинкой? Ведь у нас впереди долгая ночь…
Ребята наверху умолкли. Низкий звук приспособлений в стенах становится все тише и тише, до тех пор, пока не сходит на нет. Ни звука по всей больнице — разве что тупое войлочное громыхание где-то в кишках здания. Очень похоже на звук, который вы слышите, если стоите поздно ночью на вершине большой плотины, а внизу работает гидроэлектростанция. Низкая, ничем не смягченная, беспощадная мощь.
Жирный черный парень стоит в холле — я могу его видеть, — осматриваясь вокруг и хихикая. Он медленно подходит к двери спальни, вытирая о подмышки влажные серые руки. Свет с сестринского поста отбрасывает на стену его тень — огромную, словно у слона, и эта тень становится меньше и меньше, пока он идет к двери спальни и заглядывает в нее. Он снова хихикает, открывает коробку предохранителя у двери и лезет в нее.
— Детки, все в порядке, спите, детки, сладко.
Он поворачивает ручку, и пол начинает уходить из-под двери, где он стоит, опускаясь, словно платформа лифта!
Это невероятно, но пол спальни сдвинулся, и мы стали отъезжать от стен и от окон отделения в сжимающийся ад — кровати, прикроватные тумбочки — все. Машинерия — наверное, это зубцы и ремни в каждом углу шахты — работает бесшумно, смазанная тишиной и смертью. Единственный звук, который я слышу, — это дыхание ребят, а эта барабанная дробь под нами становится тем громче, чем ниже мы опускаемся. Свет в двери спальни в пяти ярдах позади этой дыры превратился в маленькое пятнышко, тускло чадящее в квадратной глубине шахты. Он становится все слабее и слабее, а потом слышен отдаленный крик, эхом отражающийся от стен шахты: « Отойдите!»— и все огни разом гаснут.
Пол опускается на что-то вроде твердого дна, глубоко утопленного в землю, и с легким скрежетом останавливается. Здесь темно, как в могиле, и я чувствую простыни вокруг своего тела, которые не дают мне дышать. Пока я развязываю простыни, пол небольшими толчками трогается вперед. Под ним что-то вроде роликов, которых я не слышу. Я не могу даже расслышать дыхания ребят, спящих вокруг меня, и я постепенно осознаю, что рокот становится таким громким, что, кроме него, я больше ничего не слышу. Должно быть, мы оказались в самом его центре. Я принимаюсь извиваться под этими чертовыми простынями, которые связывают меня крест-накрест, и почти ослабил их давление, когда стена заскользила вверх, явив глазу огромную комнату с бесконечным множеством машин в окружении потных мужчин с обнаженными торсами, бегающих бесшумно туда-сюда с застывшими, пустыми лицами в отсвете огней от сотен раздутых печей.
Все, что я вижу, выглядит так, как и звучало, словно внутренность гигантской матки. Огромные медные трубы исчезают где-то во тьме. Провода бегут к трансформаторам, которых не видно. Смазка и окалина покрывают все, окрашивая сцепления, моторы и динамомашины красным и угольно-черным.
Работники двигаются одинаковыми короткими шагами, без напряжения, они перетекают, словно жидкость. Никто не торопится. Кто-то задерживается на секунду, трогает циферблат, нажимает кнопку, поворачивает выключатель, и половина его лица вспыхивает белым светом от вспышки искр, и двигается дальше спокойными шагами вдоль гофрированного железного прохода, минуя друг друга. Так гладко и так близко, что я могу слышать соприкосновение их мокрых боков — словно лосось бьет хвостом по воде, — и снова останавливаются, чтобы повернуть очередной выключатель и двинуться дальше. Они мелькают во всех направлениях, там, где достает глаз, эти мгновенные картинки мечтательных кукольных лиц работников.
Неожиданно один из рабочих, закрыв глаза, падает. Двое его товарищей подбегают, сгребают его и бросают в печь. В печи взметнулся огненный шар, и я слышу треск лопающихся трубок, смешивающийся с шумом и лязгом остальных машин.
Дверь спальни скользит в шахту, приблизившись к машинной комнате. Я вижу, что прямо над нами — одна из таких штук, какие можно увидеть в мясной лавке, на роликах и на рельсах, чтобы передвигать туши из холодильника к столу мясника, не особенно утруждая себя. Двое парней в черных брюках, в белых рубашках с завернутыми рукавами и тонкими черными галстуками протягивают переход над нашими кроватями, жестикулируя и переговариваясь друг с другом, их сигареты оставляют в красном свете длинные светящиеся следы. Они разговаривают, но вы не можете разобрать ни слова из-за шума, в котором тонут их голоса. Один из парней щелкает пальцами, и ближайший из работников, резко повернувшись, припустил к нему. Парень указывает мундштуком на одну из кроватей, и рабочий трусит к стальной стремянке и добирается до нашего уровня, где скрывается из вида между двумя трансформаторами, огромными, словно подвалы для картошки.
Когда рабочий появляется снова, он тащит за собой крюк. Держась за него, огромными шагами проносится мимо моей кровати. Печь, гудящая где-то вдалеке, неожиданно освещает его прямо перед моими глазами. Лицо красивое и страшное, восковое, словно маска, на нем никаких эмоций. Я видел миллион таких лиц.
Он подходит к кровати и одной рукой сгребает старого Овоща Бластика, ухватив его за пятки, и поднимает его так, словно Бластик весит не больше нескольких фунтов; другой рукой рабочий передвигает крюк и продевает его через сухожилие у пятки, и теперь старый парень подвешен там вверх ногами, его старое заплесневелое лицо вздулось, на нем появился страх, в глазах немой ужас. Он продолжает махать обеими руками и свободной ногой до тех пор, пока пижама не сползает ему на голову. Рабочий связывает ее, словно джутовый мешок, и толкает тележку назад через эстакаду на дорожку и смотрит туда, где стоят двое ребят в белых рубашках. Один из парней вытаскивает скальпель. К скальпелю приделана цепочка. Парень сбрасывает его работнику, обвязав другой конец цепочки вокруг перил, чтобы рабочий не мог потерять оружие.
Рабочий берет скальпель и принимается нарезать старину Бластика на куски уверенными движениями, и старик перестает биться. Я боюсь, что не вынесу этого, но нет ни крови, ни выпадающих внутренностей, которые я ожидал увидеть, — просто куча ржавчины и пепла, изредка — кусок проволоки или стекла.
Где-то в стороне печь открыла свой зев, поглотив кого-то.
Я хочу вскочить, побежать и разбудить Макмерфи и Хардинга, всех ребят, кого только смогу, но в этом нет никакого смысла. Если бы я растолкал кого-нибудь, он бы сказал: «Ты, чокнутый идиот, что, черт побери, тебе нужно?» А потом, возможно, лично помог бы одному из рабочих вздернуть меня на один из этих крючков со словами: «Как насчет того, чтобы посмотреть, что у индейцев внутри?»
Я слышу высокое холодное свистящее и сырое дыхание туманной машины, вижу, как первые его струйки просачиваются к кровати Макмерфи. Я надеюсь, он сообразит спрятаться в тумане.
Слышу глупый лепет, напоминающий мне что-то очень знакомое. Я сумел повернуться, чтобы посмотреть в другую сторону. Это лысый Связи с общественностью с раздутым лицом. Пациенты вечно спорят, с чего это его раздувает. «Я бы сказал, что он это делает», — спорят они. «Что до меня, то я бы сказал, что не делает; вы когда-нибудь слышали о парне, который бы действительноего надевал?» — «Да, но вы когда-нибудь раньше вообще слышали о подобном парне?» Первый из пациентов пожимает плечами и кивает: «Интересная точка зрения».
Теперь он раздет донага, не считая длинной нижней рубахи с модной монограммой, вышитой красным на груди и на спине. И я вижу наконец-то (нижняя рубашка задралась у него на спине, когда он проезжал мимо, и я сумел подсмотреть), что он действительно носит кое-что, зашнурованное так плотно, что оно может лопнуть в любую секунду.
А к корсету привязаны по полдюжины предметов — за волосы, словно скальпы.
У него в руках маленькая фляжка с чем-то, что он вливает себе в глотку всякий раз, когда собирается что то сказать, а еще — вата с камфарой, которую он время от времени подносит к носу, чтобы перебить вонь. За ним тащится целая команда школьных учителей и учениц колледжа. На них голубые фартуки, а волосы завиты в тугие локоны. По ходу дела он читает им краткую лекцию.
Вспомнил что-то смешное и вынужден остановить лекцию, чтобы сделать большой глоток из фляжки и унять смех. Во время паузы одна из его девочек оглядывается вокруг и видит разделанного Хроника, подвешенного за пятку. Она вскрикивает и отпрыгивает. Связи с общественностью поворачивается, видит труп и бросается, чтобы схватить руку и прощупать пульс.
— Вы видите? Вы видите? — Он визжит и закатывает глаза и отхлебывает из фляжки, потому что ему так смешно. Мне кажется, что его разорвет от смеха.
Перестав наконец смеяться, он идет вдоль ряда машин и продолжает свою лекцию. Неожиданно останавливается и хлопает себя по лбу.
— О, безмозглая яголова! — и бегом возвращается к подвешенному Хронику, чтобы сорвать с него очередной трофей и прицепить к корсету.
Справа и слева творится что-то невообразимое — сумасшедшие, жуткие вещи, слишком уж невероятные, чтобы кричать о них, и так похожие на правду, чтобы над ними смеяться. Но туман стал достаточно плотным, и я больше ничего не вижу. Кто-то дергает меня за руку. Я уже знаю, что сейчас случится: кто-то вытащит меня из тумана, и мы снова окажемся в отделении, и ни малейшего признака того, что происходило ночью. А если я попытаюсь рассказать кому-нибудь об этом, они скажут: идиот, у тебя просто был ночной кошмар; такие кошмарные вещи, как большая машинная комната в недрах матки, где людей разделывают роботы-работники, просто не существуют.
Но если они не существуют, как может человек видеть их?
Из тумана за руку меня выдернул мистер Текл, он трясет меня и смеется. Он говорит:
— Вам приснился дурной сон, миста Бромден.
Он санитар и дежурит в ночную смену с одиннадцати до семи — старый негр с широкой сонной улыбкой и длинной трясущейся шеей. От него пахнет так, будто он немного выпил.
— А теперь снова усните, миста Бромден.
Иногда по ночам он развязывает мне простыни, если они затянуты так туго, что я начинаю ворочаться. Если бы дневная смена догадывалась об этом, ему пришлось бы худо. Но они думают, что это я их развязываю. Мне кажется, он делает это по доброте, если ему самому ничего не грозит.
На этот раз он не развязывает простыни, отходит от меня, чтобы помочь двум санитарам, которых я никогда не видел, и молодому доктору поднять старого Бластика на каталку и вывезти его, покрытого простыней. С ним обращаются так осторожно, как при жизни не обращались.
* * *
Пришло утро, и Макмерфи встал раньше меня. Такое случилось в первый раз с тех пор, как нас покинул дядюшка Джулс, Тот Который Ходил По Стенам. Джулс был старый умный седой негр, и у него была теория, что ночью земля опрокидывается прямо на него и делают это черные ребята: и поэтому он вскакивал утром раньше всех, чтобы застукать их на месте преступления. Как и Джулс, я встаю пораньше, чтобы посмотреть, какую машинерию они тайком протаскивают в отделение или устанавливают в душевой, и обычно в холле оказываемся лишь я да черные ребята, а какой-нибудь следующий пациент вылезает из постели только минут через пятнадцать. Но сегодня утром, выбираясь из-под простыней, слышу, как Макмерфи возится в уборной. Он поет! Поет так, что вам бы и в голову не пришло, что у него в этом мире есть хотя бы одна печаль. Его голос звучит чисто и сильно, отражаясь от цементных стен и стали.
— «Покорми лошадей, тут она мне сказала…» — Ему нравится, как звук, звеня, разносится по уборной. — «Посиди со мной рядом, здесь сена немало». — Он вдыхает всей грудью, и его голос взмывает вверх, набирая высоту и силу, пока не задрожали провода в стенах. — «Мои лошади сыты, я кормил их с утра». — Он взял ноту и поиграл с ней, а потом резко выдохнул остаток куплета, чтобы покончить с этим. — «Извини, дорогая, мне пора, мне — пора».
Поет! Ребят словно громом поразило. Они долгие годы ничего такого не слышали, во всяком случае здесь, в отделении. Острые в спальне приподнимаются на локтях в своих кроватях и, протирая глаза, слушают. Как случилось такое, что черные ребята не выволокли его оттуда? Они ведь никому не позволяли раньше поднимать столько шума, разве нет? Почему же так получилось, что с этим новым парнем они обошлись по-другому? Он ведь — просто человек, из плоти и крови, который будет также слабеть, бледнеть и умрет в конце концов, так же как и все остальные. Он живет по тем же законами, принимает пищу, сталкивается с теми же бедами; и он должен быть таким же беспомощным перед Комбинатом, как и все остальные, разве нет?
Но этот новый парень — он другой, и Острые это видят, он отличается от всех, кто прошел через это отделение за последние десять лет, он отличается от тех, кого они встречали снаружи. Может быть, он и уязвим, может быть, но Комбинату он не по зубам.
— «Груз уложен в телеги, — поет он, — и кнут мой в руках…»
Как же ему удалось ускользнуть, увернуться от хомута? Может, Комбинат выпустил его из-под своего контроля, как Старину Пете. Может, он рос диким, где-нибудь в деревне, и все время мотался туда-сюда, и, будучи мальчишкой, школьником, никогда не задерживался ни в одном из городишек дольше чем на пару месяцев, так что школа ничего не могла с ним поделать, а потом работал на лесозаготовках, играл в азартные игры, крутил колеса на аттракционах, перебирался с места на место легко и быстро и все время оставался в движении, так что Комбинат не успел внедрить в него что-либо. Может быть, это было так, он просто никогда не давал Комбинату никаких шансов, так же как он не оставил черному парню шанса добраться до него со своим термометром прошлым утром, потому что в движущуюся мишень попасть труднее всего.
Никакая жена не клянчит у него новый линолеум. Никакие родственники не смотрят на него с осуждением старыми водянистыми глазами. Никому нет до него дела, и этой свободы достаточно, чтобы стать хорошим жуликом. Черные ребята не врываются в уборную и не затыкают ему рот: они знают,что он — не в их власти, они помнят тот случай со Стариной Пете. Они прекрасно видят, что Макмерфи гораздо больше, чем Старина Пете. И если он по-настоящему пустит в ход кулачищи, им несдобровать — всем троим и Большой Сестре, которая всегда наготове со своей иглой. Острые кивают друг другу, они догадываются, почему черные ребята не пресекают его пенис, как непременно случилось бы, попытайся такое сделать любой из нас.
Я выхожу из спальни в холл, одновременно Макмерфи выходит из уборной. Он натягивает кепку, а больше на нем почти ничего нет — только полотенце, завязанное вокруг бедер. В другой руке он держит зубную щетку. И так он стоит в холле, оглядывая его, покачиваясь на носках, чтобы не касаться ногами холодного кафеля. Его наконец заметил черный парень, тот, последний, и Макмерфи подходит к нему и хлопает по плечу, словно они всю жизнь были друзьями.
— Послушай-ка, старина, где бы мне раздобыть немного зубной пасты, чтобы вычистить свои жернова?
Недоразвитая голова черного парня дергается, словно на шарнире, и он упирается носом в костяшки пальцев Макмерфи. Нахмурившись, он быстро оглядывается, чтобы убедиться, что остальные двое ребят поблизости, и сообщает Макмерфи, что они не открывают кладовку до шести сорока пяти.
— Таков порядок, — говорит он.
— Неужели? Я правильно понял, что они именно там держат зубную пасту? В кладовке?
— Это правда, она заперта в кладовке.
Черный парень попытался вернуться к своему занятию — он как раз протирает плинтуса, — но рука Макмерфи все еще лежит у него на плече, словно большая красная скоба.
— Заперта в кладовке, правда? Очень хорошо, а теперь скажи мне, почему это они запирают зубную пасту? Она ведь не представляет большой опасности? Ты ведь не можешь ею отравить человека, ведь не сможешь? Как ты думаешь, почему они запирают под замок такую невинную и безопасную вещицу, как тюбик с зубной пастой?
— Таков порядок в отделении, мистер Макмерфи, вот и вся причина. — Но когда он видит, что последний аргумент совсем не убедил Макмерфи, хмурится, покосившись на руку на своем плече, и добавляет: — Ты что, полагаешь, что здесь каждыйможет чистить зубы когда ему вздумается?
Макмерфи ослабил хватку, дернул пучок рыжей шерсти у себя на груди и задумался.
— О-хо-хо, о-хо-хо, я понял, куда ты клонишь: весь фокус в том, чтобы никто не чистил зубы после еды.
— Вот остолоп, ты что, не понимаешь?
— Нет-нет, теперь я понял. Ты говоришь, что люди начали бы чистить зубы когда им только в голову взбредет?
— Именно так, поэтому мы…
— Господи, ты только можешь себе представить? Начали бы чистить зубы в шесть тридцать, шесть двадцать — и кто может поручиться? — даже в шесть часов! Да, теперь я начинаю понимать.
И он — за спиной у черного парня — подмигивает мне, стоящему у стены.
— Мне нужно помыть плинтус, мистер Макмерфи.
— О! Я не собирался отрывать тебя от работы. — Он отступил, и черный парень вернулся к своему занятию. И тут Макмерфи выступил вперед и наклонился, чтобы заглянуть в мусорное ведро, стоявшее рядом с черным парнем. — Так, посмотрим, что у нас здесь.
Черный парень опускает глаза.
— Посмотрим где?
— Посмотрим здесь, в этом старом ведре, Сэм. Что тут за добро в этой старой жестянке?
— Это… мыльная стружка.
— Ну что ж, обычно я использую пасту, но… — Макмерфи сует зубную щетку в ведро и вертит ею, подцепляет на нее мыльную стружку и стучит по краю ведра, — но это мне тоже вполне подойдет. Большое спасибо. Вопросом о порядке в отделении мы займемся позже. — И он возвращается в уборную, где я слышу снова принимается петь и одновременно чистить зубы, прерываясь лишь для яростных плевков.
Черный парень стоит и смотрит ему вслед, и швабра в его серой руке сбилась с положенного ритма. Потом он оглядывается и видит, что я смотрю на него. Тогда он подходит, хватает меня за резинку пижамы и тащит через холл, на то место, где я вчера убирался.
— Вот тут! Прямо тут, черт тебя побери! Я хочу, чтобы ты работал тут, а не таращился вокруг, как большая глупая корова. Тут! Тут!
Я наклоняюсь и принимаюсь тереть пол шваброй, повернувшись к нему спиной, чтобы он не мог видеть моей ухмылки. Я чувствую себя отлично, потому что Макмерфи выставил этого черного парня козлом, что мало кому удавалось. Папа был способен на такое, он стоял широко расставив ноги, с невозмутимым видом, щурясь в небо, когда люди из правительства явились к нему, чтобы вести переговоры и выкупить договорные обязательства.
— Канадские гуси уже здесь, — говорил папа, поглядывая в небо.
Люди из правительства смотрели, шелестя бумагами.
— О чем это вы?.. В июле? Не может быть здесь гусей в это время года. Да, не может быть гусей.
Они разговаривали, как туристы с Востока, которым кажется, что они должны разговаривать с индейцами именно так, чтобы те могли их понять. Папа, казалось, вообще не замечал, как они говорят. Он продолжал смотреть в небо.
— Гуси здесь, белый человек. Вы это знаете. Гуси здесь в этом году. И были здесь в прошлом. И годом раньше, и еще годом раньше.
Чиновники смотрят друг на друга и кашляют.
— Да. Наверное, это правда, Вождь Бромден. А теперь — к делу. Забудьте о гусях. Обратите внимание на контракт. То, что мы предлагаем, может принести большую выгоду вашему народу — изменить жизнь краснокожих.
— …И еще годом раньше. И еще годом раньше… — говорил папа.
Когда до людей из правительства дошло, что над ними смеются, весь совет племени — сидят на крылечке у нашей хижины, то засунут трубки в карманы своих клетчатых черно-красных шерстяных курток, то вытащат их снова, посмеиваясь, глядя друг на друга и на папу, — разразился таким хохотом, что все от него едва не поумирали.
Они выставили чиновников козлами; наконец те повернулись, не сказав ни слова, и зашагали к шоссе, с покрасневшими шеями, и мы смеялись им вслед. Иногда я забываю, что может сделать смех.
Ключ Большой Сестры поворачивается в замке, и, когда она появляется в дверях, черные ребята уже стоят перед ней навытяжку, переминаясь с ноги на ногу, словно дети, которым приспичило по-маленькому. Я достаточно близко, чтобы услышать, как во время разговора пару раз всплывает имя Макмерфи, и догадываюсь, что черный парень рассказывает, как Макмерфи чистил зубы, и совершенно забывает доложить ей о старом Овоще, который умер этой ночью. Он машет руками и пытается объяснить, каким дураком выставил себя этот рыжеволосый прямо с раннего утра — подрывать устои, действовать в противоречии с политикой отделения, и не может ли она с этим что-нибудь сделать!
Она смотрит на черного парня, пока он не перестает дергаться, потом переводит взгляд туда, где пение Макмерфи сотрясает дверь уборной.